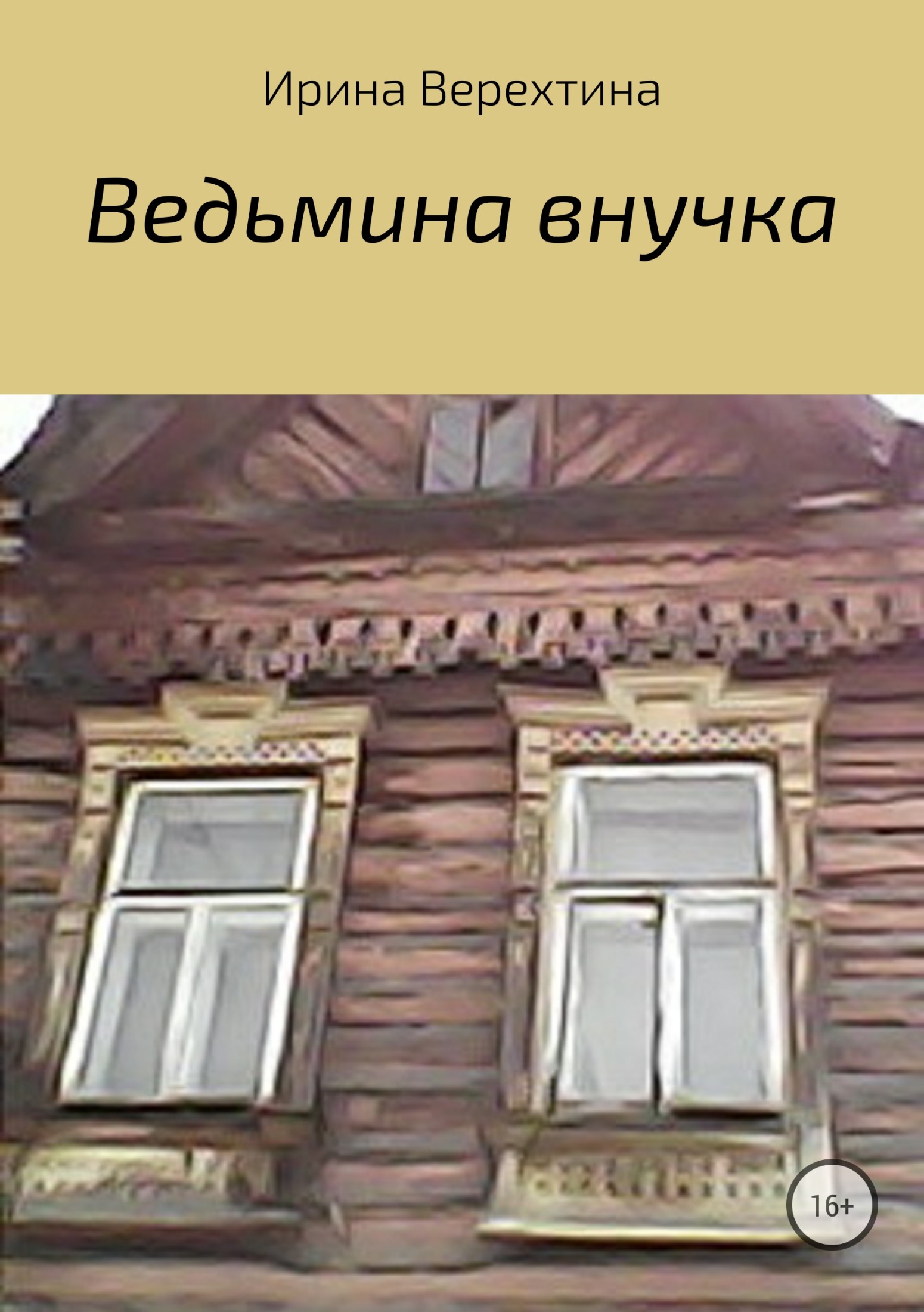вот я поднимаюсь по кривой улочке, на которую испуганно смотрят покосившиеся дома.
И небо огромное, яркое, как солнце, как звезда, как душа, как зеркальное отражение любви.
Музыке навстречу, солнцу навстречу летит моя душа, распластавшись в полете, подобно безумной белке, перепархивающей, перелетающей, «пере- что хочешь…».
Любви навстречу, сердцу навстречу…
И этот день… не забыть бы его, сохранить, сберечь…
Море времен, вьющаяся нить, солнце через край плещущее…
…Пляшущая массовка расположилась на огромной площадке: снимался фильм «Легенда о Сурамской крепости».
Музыка просачивалась в пространство из рупора, водруженного на старенький микроавтобус.
Движение на площадке было ощутимо броуновским; все ждали появления Параджанова.
И, пока суть да дело, я разговорился с кинооператором Гарри Кунцевым. Он, по его словам, не первый раз работал вместе с Маэстро. От него, собственно, я узнал подробности из жизни опального режиссера; о том, что этого незаурядного человека несколько раз отправляли за решетку, обвиняя в каких-то выдуманных грехах; о том, что отказались от него Армения и Украина, а Грузия взяла на поруки.
И вот, говорил Кунцев, специально для этой картины, чтобы власти особенно не «возбухали», Параджанову выделили в помощники народного артиста Дуду Абашидзе; и он, этот Абашидзе, будет значиться в титрах в качестве со-режиссера; но это так, для виду, а на самом деле, конечно, не нужен Параджанову никакой со-режиссер.
– Самое интересное, – добавил Кунцев, – что иностранцы заказали этот фильм еще до того, как Параджанов начал его снимать. О, кстати, а вот и он…
И тут…
Как бы описать этот момент, когда вдруг все преобразилось;
когда броуновское движение на съемочной площадке вдруг упорядочилось как бы само собой;
когда мир заискрился, засверкал, заулыбался;
и —
все это —
– от появления одного человека, Сергея Параджанова.
Как бы описать эту соткавшуюся из ничего, из хаоса иную атмосферу, иную реальность, иной порядок вещей?
…А музыка играла как заведенная, не переставая (Кунцев, кстати, рассказал мне, что это прием, давно используемый Параджановым; как правило, музыку он выбирает сам, и она крутится все время, задавая естественный темпо-ритм…).
Музыка, казалось, пропитывала воздух, дома, площадь, людей, одежду, декорации;
все было пропитано этой пряной, как Восток, музыкой, щемящей и тягучей;
мелодии вились, как дымок от кальяна,
и:
действительность теряла свои чертовы очертания, двоилась, множилась, дробилась…
Вам рассказать, как появился на площадке Сергей Параджанов?
Это было явление шута, скомороха, клоуна;
на наших глазах творился
персональный
перформанс.
Параджанов вел за собой… верблюдов;
целая вереница верблюдов, вальяжно покачиваясь, вплывала на съемочную площадку.
Маэстро был обут в какие-то немыслимые мокасины,
одет с нарочитой небрежностью:
раздувался от ветра широкий плащ,
бултыхался цветистый шарф,
разухабистое кепи украшало его знаменитую голову…
Шел он разлапистой царственной походкой (вот так в нем и сочетались – разлапистость и царственность…).
…А музыка продолжала греметь, прыгая в небеса и оттуда низвергаясь на землю…
– Пришли! – сказал маэстро, и караван встал, повинуясь его приказу; будто Параджанов никогда в жизни ничем иным не занимался, как водил по пустыне караваны верблюдов…
– Ну как, массовка готова? – спросил Параджанов у ассистента.
Затем, не дожидаясь ответа, прошелся, как боевой генерал, осматривая игривых статистов: одному поправил воротник, у второго завязал платок на шее, на третьего посмотрел, хмыкнул и прошествовал дальше;
но:
это был не просто просмотр боевой готовности массовки, —
это продолжалось начатое представление, оно продолжалось, творилось на ваших глазах, создаваясь из мелочей, выколупываясь из скорлупы обрыдлой повседневности.
Священнодействовал Параджанов, а за ним наблюдал, разинув рот, его «со-режиссер», монументальный и величественный, как постамент Церетели, Дуду Абашидзе; смотрел, как играет в дуду волшебства непредсказуемый Сергей, непредсказуемый, как само искусство, как сама жизнь.
– …Мотор! – крикнул режиссер.
И:
началась съемка.
И тут я умолкаю, ибо бессилен передать словами этот творческий акт, этот бешеный градус мастерства, эту горячую, обжигающую тайну замысла.
Уже упомянутый мной Гарри Кунцев на вопрос о том, о чем же все-таки Параджанов снимает фильм, заметил:
– Никто из нас, кроме него, не знает, каков будет конечный результат. Мы все – его послушные исполнители. Сегодня снимаем одно, завтра Сергею придет что-то в голову, и мы будем снимать совсем другое, вне всякой связи с предыдущим эпизодом. Его мысль непредсказуема, она не имеет никакого отношения к сценарию, который он сам и пишет. Съемки для Параджанова – исходный материал, не более; фильм рождается во время монтажа, на монтажном столе, понимаете? Потому я не знаю, о чем фильм. Знает только он…
…Он же гений?
Как ты да я…
Прихотливая память ведет меня извилистой тропой, уводя от Ирины Макаровой, – а на самом деле, лишь приводя к ней, только окольным путем, и я вспоминаю о других бакинцах, чья жизнь оборвалась внезапно – у каждого по-разному, у каждого по-своему, – но так и не дав им сказать своего последнего слова.
Если мои одноклассники живы и здравствуют, но, как неоднократно мною будет сказано, они – суть тени, плод моего воображения, то эти люди, став тенями, как живые стоят передо мной.
И: вот – они и все, что с ними связано; их судьбы и время, в котором они жили…
Слово и облик
…Не мужчина, а облако в штанах…
В. Маяковский. Облако в штанах
23 апреля…
…«Мещане» у Товстоногова. Тоска смертная, но играют очень здорово…
В. Катанян. Лоскутное одеяло
К сожалению, этого человека уже нет с нами больше десяти лет.
Александр Гольдштейн – лауреат Букеровской и Анти-Букеровской премии за книгу критики, изданную в Москве.
Родился в Таллине, жил и учился в Баку, пропадал в Питере, оказался в Тель-Авиве.
Невысокого роста, очки, переезжающие переносицу, кажутся старомодным пенсне, вежлив и учтив, ничто не выдает в нем парадоксалиста и ниспровергателя основ, участника скандальных перформансов, автора отточенных по мастерству эскападных эссе. Его слог умыт и крепко сколочен, обладает мощной энергетикой, которая приводит в раздражение всякого рода «образованцев» от литературы и журналистики; «о чем он пишет? – вопиют они, – к чему призывает? почему сквозь его смысл приходится продираться, как сквозь густые заросли?»; если бы знать ответы на эти «почему».
Но странное дело: во всяком случае, для меня, облик Александра Гольдштейна неизменен, как глянцевая обложка знаменитого шоколада «Альпенгольд», до той поры, пока не соприкасается со словом.
Нет, не так.
Облик его перетекает в облако,
но вот: явлено слово, звенящее, как кольчуга.
Боже мой, что делает с ним слово, как