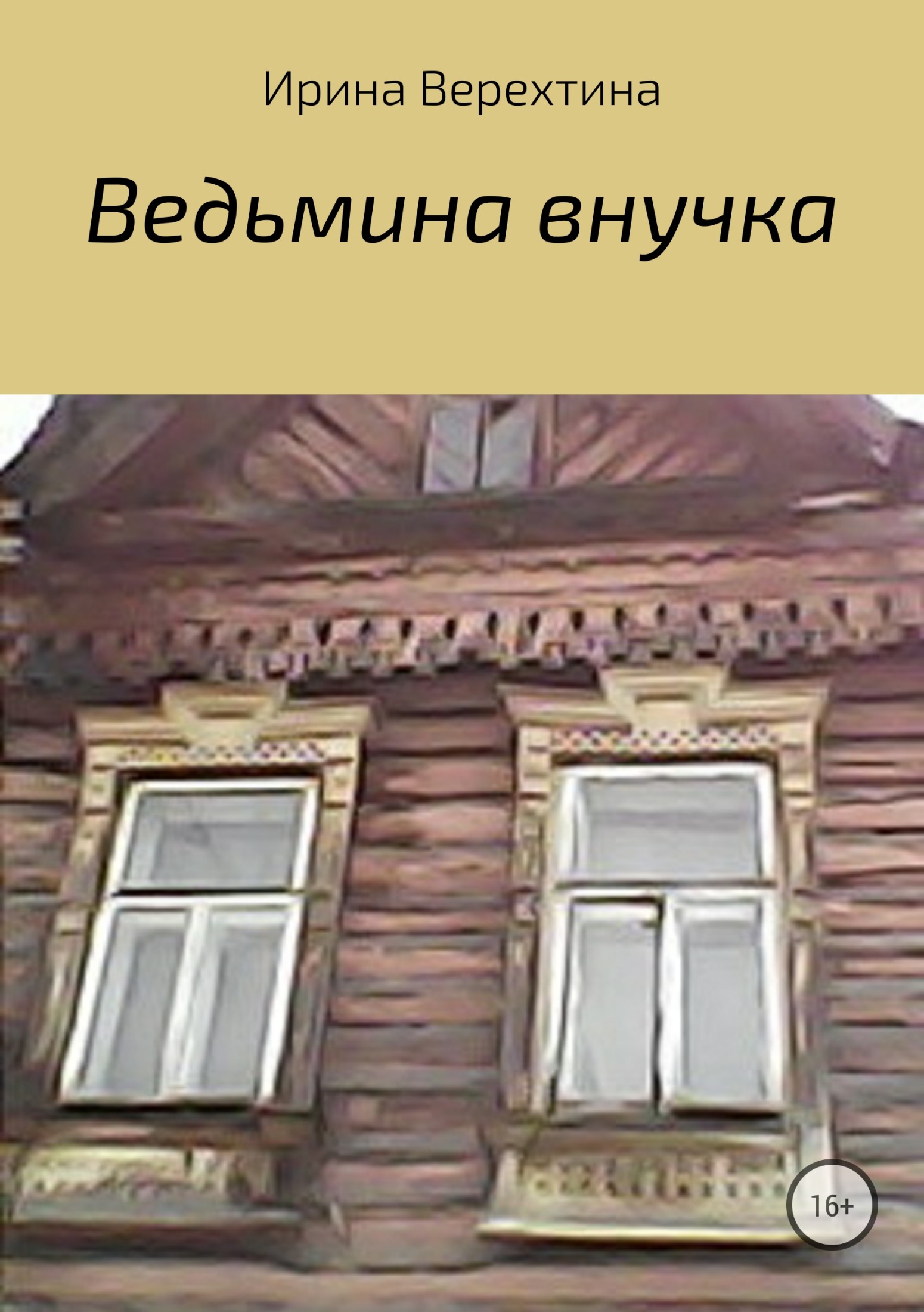школы Людмила Ивановна Никитенко.
Мои одноклассники выстраиваются по ранжиру; каждого из них хочется назвать, ибо судьбы их неизвестны и путь их во мраке.
Достаточно будет списка; никаких характеристик, никаких эпитетов, фамилии и имена, как на вечерней поверке в пропитанной солдатским потом казарме (с той разницей, что отклика мне нет, нет отзвука, нет гулкого эха ответа…).
…Земфира Гусейнова…
…Ваня Петросян (про него известно, что стал моряком)…
…Нина Осипова…
…Миша Акопов…
…Элла Ишхаян…
…Никита Стасев (про него известно, что стал летчиком в гражданской авиации)…
…Карина Микаэлян…
…Назим Гусейнов (стал военным, дослужился до звания майора)…
…Римма Улунц (стала многодетной матерью)…
…Берта Бабаян…
…Наташа Захарова…
…Нелли Авакян…
…Эдик Багдасаров (стал военным)…
…Ира Макарова (нашел ее через четверть века в городе под названием Старый Оскол; бежала вместе с семьей из Баку в самом начале девяностых)…
…А потом нас посадили в автобусы и повезли на славный бакинский бульвар, и всю ночь напролет мы гуляли по кипящей от зелени набережной…
Кругом шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея…
…И, алея, метался закат по бакинской бухте, расшвыривая драгоценные осколки солнца вдоль безжалостно растянувшегося бульвара.
О, этот бакинский бульвар!
О, эта загнанная страсть к променаду; прекраснодушные парочки, медленно фланирующие в направлении к будущей страсти; лазурный перепев дерев; ажурные ограды на берегу; ресторанные запахи, порхающие в небе, как раздраженные мотыльки.
Все это было…
И… ушло.
И… замело пылью времен, отдалило лиловой лентой расстояний, затуманило взоры, забросало песком, забрызгало маслянистыми каспийскими волнами.
Но тогда…
…Тогда мы неслись белой послушной стайкой вдоль бесконечной нарядной набережной;
справа оставался обрюзгший дом правительства с непременным заплесневевшим Лениным, протягивавшим руку в сторону бульвара;
далее следовали дома, приснившиеся нам из девятнадцатого века;
Театр оперетты, опирающийся на традиции кафешантана, с такими же дешевыми и непритязательными постановками;
знаменитый дом конца девятнадцатого века, построенный по проекту безумного архитектора-итальянца, который, как сказывали, по какому-то странному умыслу оставил возведенное им здание без туалетов (и это было весьма странным даже для того, еще не сошедшего с ума девятнадцатого века);
и, наконец, – если идти бульваром, – взору напротив представала Девичья башня (Гыз галасы – по-азербайджански).
(Гыз галасы – это символ барахтающейся в социализме бакинской столицы; на бакинском гербе постоянно вырисовывался нежный силуэт этого храмового сооружения.)
…Стремглав летит воспоминание;
проскакивает, как искра, слетающая с троллейбусной штанги;
осталась в стороне Девичья башня, знаменитый магазин «Академкнига», возле которого читающий народ толпился, бывало, в ожидании очередной подписки.
Чуть далее – Дом медицинских работников.
Здесь – десятиклассником – пришел я в народный театр. Руководил им Лев Лазаревич Грубер, один из ведущих артистов Театра Русской драмы.
Признаюсь:
для меня, десятиклассника, знакомство с этим человеком было подобно знакомству с… Шаляпиным; нет-нет, я нисколько не преувеличиваю;
выкатившись из средней школы, я жил предчувствием знакомства с новым, доселе невиданным мною миром;
именно таким миром и казался мне театр, загадочный и манящий.
Помню отчетливо, как состоялось мое знакомство со Львом Лазаревичем:
он —
красивый, вальяжный, артистичный —
стоит на ступенях, словно возвышаясь надо мной; нависая, как громада,
а:
я с волнением и трепетом обращаюсь к нему с просьбой «впустить» меня в коллектив народного театра.
– Да, конечно, приходите на следующую репетицию, – вежливо говорит Грубер.
«Боже! Он говорит со мной на „Вы“!» – восторженно думаю я; он – демиург, властитель дум, Артист…
Замечу, что – ко всему прочему – у Грубера был потрясающего тембра голос. Да и вообще, как мне видится сейчас, из своего собственного далека, это был в высшей степени талантливый человек (его обожали все без исключения студийцы). Он переиграл много ролей в своем драматическом театре – как классического, так и современного репертуара,
но:
провинция театра, провинция режиссуры сгубила его, не дав реализоваться полностью, погасила его нервный, импульсивный, горячечный талант…
И разве только его одного?
И все же:
грустное и щемящее воспоминание о Грубере пришло вовсе не зря:
словно нить Ариадны, ведет оно меня —
– через знаменитый Губернаторский садик —
– мимо филармонии и станции метро под названием «Баксовет» —
– к другому воспоминанию, яркому и шипучему, как брызги праздничного фейерверка.
…Именно что:
портрет;
рисованный легко и без особых подробностей,
но:
с тщательно выписанным интерьером, окружением, средой.
Интерьер есть картина (или рисунок), изображающая внутреннее пространство помещения.
Можно, пожалуй, добавить понравившийся мне пассаж из Гая Давенпорта:
…Позднее, за ужином, Макс вспомнил анекдот про отца и сына, которые верхом подъезжают к художнику в открытом поле.
– Это Сезанн, – говорит сын.
– Откуда ты знаешь, кто он? – спрашивает отец.
– Потому, – отвечает сын, – что он пишет картину Сезанна…
Я говорю о мимолетной, но до сих пор мерцающей в моем сознании встрече с шаманом советского кино Сергеем Параджановым.
Собственно, так, не встреча, а даже:
полувстреча,
полунамек,
полувоспоминание,
полунота, соскользнувшая некогда с дребезжащих струн судьбы, но не пропавшая, не исчезнувшая, а затаившаяся, спрятавшаяся.
Она выпархивает из подсознания, чтобы оживить тот солнечный день, озвучить то утро, предвещавшее встречу с Маэстро.
Итак, Старый город, Ичери шехер.
…Я думал о тебе, старый город, погружаясь в прошлое;
все было так или иначе,
все, если захочешь,
было именно так
в этом меняющемся мире.
Я погружаюсь в прошлое, откуда вдруг началось это чудо, о котором сегодня мне не с кем говорить, кроме себя самого. Не с кем разделить мне свою жизнь, свои воспоминания, разве только что с голубым экраном компьютера, который мигает, как фонарь «скорой помощи», мчащейся на ветру к мнимому больному.
Изменчиво мигает фонарь, словно время пульсирует, посылая в будущее свои трепетные сигналы.
Времена меняются, меняются и нравы, но что делать, так уж устроен мир, некого позвать, не перед кем отчитаться, и даже строгий мой учитель, мой мучитель, мой властелин давно уже растворился в вечности, исчез,
как миф,
как привидение,
как сон, как утренний туман…
Но:
тот день тих и поднебесен,
тот день, что перекочевал из прошлого в будущее.
Боже!
Верни мне этот день, один из тех редких дней, которые бы хотелось повторить в своей жизни еще раз.
И вот…
Время смещается,
море волнуется,
бьется в берег волна,
снова со мной моя молодость непутевая,
и кровь бежит по жилам; та кровь, что течет из жил.
Не слушай, не повторяй, не смотри, только чувствуй и только живи этим днем, этим часом, этим чувством.
Время проваливается в воронку,
пласты смещаются.
И