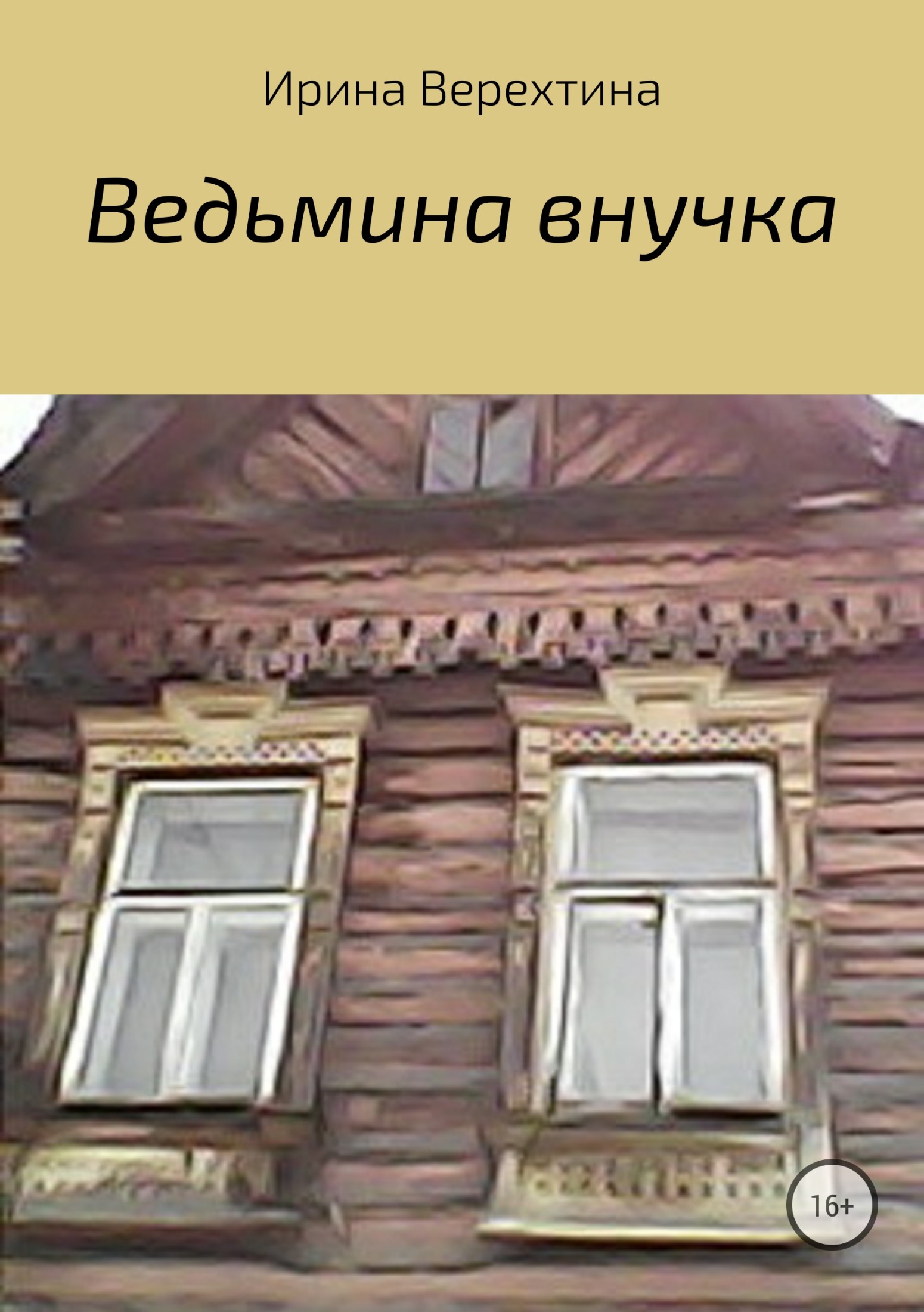провалиться в бездну бедности именно в этом, третьем микрорайоне?»
Он находил какое-то мистическое объяснение цифре «три», тревожащее его всю последующую жизнь. Но мистика – вещь весьма умозрительная; зрительно ее не узреть, умом не объять. Хотелось все-таки какой-то конкретности, которая катилась бы критическим обручем, обрученным с обреченной реальностью.
Третий микрорайон – это обреченная реальность; она была обречена с самого начала своего существования; сучьего существования, когда в маленьких, скукоженных комнатках ютились порой по нескольку семей. Кто-то называл это решением жилищного вопроса; кто-то бодро ставил галочку в графу соответствующего документа; кто-то с высоких трибун трубил о трудной тропе трудового народа; кто-то придумывал очередные ордена за подвиг и доблесть, как будто истинная доблесть нуждается в орденах; как знать, а может быть, истинной-то и не было, а были эти плевки на грудь, именуемые орденами?
Третий микрорайон – это отнюдь не рыцарский орден; это, скорее, орден веселых нищих, лукавых бродяг, это орден талантливых трудяг, орден бродяг, возникающих в топи третьего микрорайона.
Третий микрорайон – терпкое прошлое, настоянное на вареве первой любви, на первой страсти к рыжей девочке с веснушками, на первой трагедии, ворвавшейся в твою жизнь.
Почему он вспомнил вдруг о третьем микрорайоне? Что заставило его, удачливого, в общем, человека, вдруг заглянуть в прошлое, которое давно уже хранится за семью замками? Что заставило его задуматься о третьем микрорайоне, который сегодня все более походит на трущобы и на котором все более и более отчетливо проступает печать гибели и распада?
«В самом деле, – думает он, – разве можно вернуться в прошлое? Разве нужно туда возвращаться? Разве было там нечто такое, от чего не следует отказываться и о чем следует вспоминать? Весь этот мир, упакованный панельными домами, кривыми асфальтовыми дорожками, неказистым стадионом, кинотеатром, названным в честь столицы великой империи, – весь этот мир давно уже прах и тлен; обитатели его – мои сверстники – покинули его, трава пробивается меж асфальтовых щелей, магазины покосились, библиотека забита фанерными щитами, трамвайные пути забиты щебнем и мусором, некогда шумный, яркий и пестрый базар превратился в свалку, и разноцветное тряпье развевается над разломанными лотками, как знамя упадка и тлена…»
Он медленно бредет по ярко освещенной улице, навстречу ему течет радостный поток разноликой толпы, и толпа – эта – не та, и жизнь – не та, и город – не тот, и третий микрорайон, тронутый серой краской пыли, медленно, как корабль, погружается в пучину забвения.
Укротитель собак,
или Время, в котором мы жили,
люди, которые жили с нами рядом
…Он не считал себя жестоким. Говорил, что просто находчив и смел, и рассказывал в качестве доказательства, как сумел однажды укротить сторожевых собак.
А дело было так. Его машина стояла в гараже. Собственно, там было много гаражей, огороженных железной сеткой.
Ночью одна из собак охраняла эти гаражи, а днем резвилась в загоне со своими собратьями.
– Понимаешь, – вспоминал он, – мне как раз нужно было ночью поработать в гараже, именно ночью. (Повторю, что он считал себя находчивым, смелым и целеустремленным.)
Первым делом, подойдя к сетке, он стал дразнить собаку и раздразнил ее так, что она, рыча, бросилась с размаху на сетку. И тогда он сунул ей прямо в морду несколько горящих спичек.
И так – несколько раз, пока собака не перестала бросаться на сетку.
И тогда он вошел, торжествуя, а собака – вы не поверите – забилась в угол, скуля (а может – постанывая?)…
Ту же процедуру он проделал со второй сторожевой собакой, с третьей, с четвертой…
И с тех пор беспрепятственно входил в гараж в любое время ночи.
…Представьте себе, он не считал себя жестоким…
О прошлом
Человек порой цепляется за прошлое, как раб цепляется за полу своего господина, умоляя о милости и пощаде.
Я не цепляюсь за прошлое; оно для меня не более, чем набор спелых фактов, а не фата-моргана или моргающая от излишней прокрученности кинолента.
Может быть, тем сильнее моя память; тем надежнее ее механизм, позволяющий запоминать даже самые малые мелочи вроде пряди светлых волос у воспитательницы в детском саду; снега, налипшего на консервную банку в нашем маленьком дворике на Первой Хребтовой, или улыбки, скользнувшей по губам молоденькой продавщицы, у которой я покупал пакет молока за 16 копеек в майский полдень 1973 года.
* * *
Однако же перед тем, как подтолкнуть свою память в направлении к Сергею Параджанову, мне бы хотелось расквитаться с третьим микрорайоном.
Эта строительная прореха во всемирной истории градостроительства не вызывает у меня ровным счетом никаких чувств; фотографии с ностальгирующего сайта, о которых я уже упоминал, навеяли лишь минутную усмешку.
«Над кем смеетесь? Над собой смеетесь?»
В том числе и над собой.
Как и с какой силой надо было промыть мозги ни в чем не повинным обывателям, чтобы заставить их поверить в существование нормальной жизни в третьем микрорайоне?
Как надо было постараться, чтобы эти казарменные строения выдавать за благо и за образцы современной архитектуры?
Кому понадобилось так издеваться над людьми, чтобы сузить огромный, пестрый, обольстительный мир до размеров этого (по) жилого массива?
Какой безумный архитектор планировал эти убогие коробки, именуемые жилмассивом?
Кто ответит за жизнь серую нашу в этом жилмассиве, бессмысленном, как сама советская власть?
…Впрочем, вопросы эти появились позже, когда «проявилось» иное зрение; то бишь – (про) зрение.
Но:
словно отдавая дань мальчишке-несмышленышу, даже не подозревающему —
на пороге каких событий
покоится
его безмятежная бакинская жизнь, —
память зафиксировала выпускной вечер в школе номер 14.
* * *
Выпускной вечер.
Музыка.
На столиках – бутерброды с черной икрой. Кто-то из взрослых пригласил духовой оркестр.
Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь…
Но эта песня появится позже; а в моей памяти осталась запечатленная жалость к этим странным «духовикам», невесть каким ветром занесенным в спортивный школьный зал.
Бьется в слюдяные окна священное дребезжание электрогитар; и сидят в сторонке пожилые люди, оставив в стороне свои инструменты; улыбаются печально, глядя на беспечных выпускников.
Боже, где они, мои одноклассники?
Вот, спустя более чем тридцать лет, —
стою я на пепелище нашей юности.
Где вы?
Нет мне ответа.
Но стоп-кадр запечатлел в моей памяти всех их, участников вечера – и учителей, и учеников.
Смеется наш классный руководитель – математик Анатолий Андреевич Багиров. Беседует о чем-то «педагогическом» с биологом Цилей Моисеевной директор