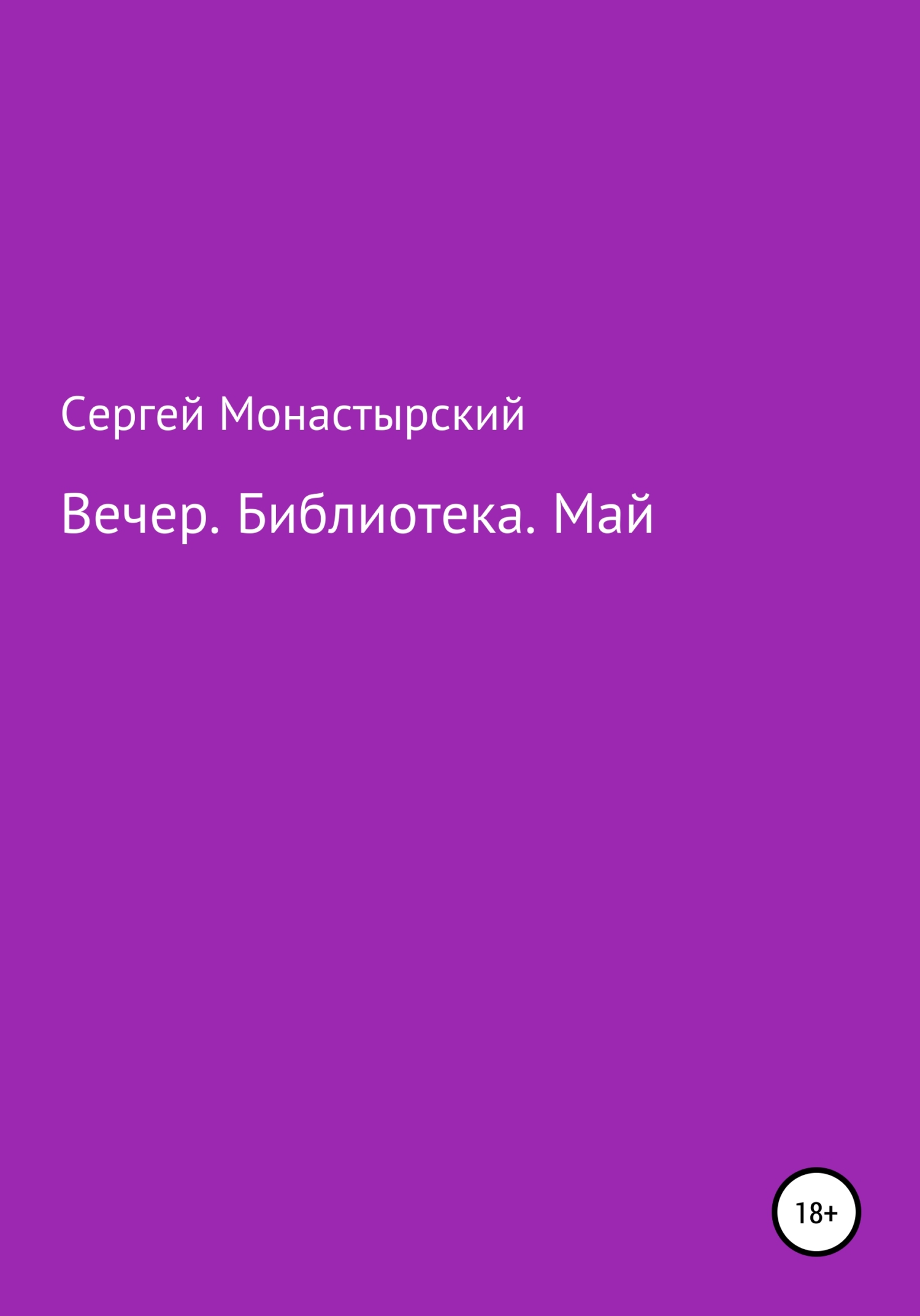ними и разделило. Первым наводить мостки кинулся Назарук, хозяин.
— Пока там обед, пока что чего, а мы за молодоженов выпьем!
Пьют. Чокаются. Закусывают. И в какой-то мере водка сблизила берега.
— Я тебе про сервант не договорила, — обращается Лидия к Шуре. — Тебе нравится наш сервант? Это точно такой же, как у Грибановых. У нас теперь все такое же: и стол, и стулья. Только обивка несколько иного тона. Мне наш тон больше нравится.
— Тон, тон… — машет на них рукой Геннадий Павлович, как бы говоря: «Женщины!..» — Этот тон не делает музыки. Так как у вас на постановление Пленума решили откликнуться? Со скрытыми резервами обстоит как? Думаете расширять посевные площади?
— Ты, пожалуйста, прожевывай лучше, — встревоженно говорит Лидия.
— Год назад ветку у нас прокладывали, — Григорьев усмехнулся. — Прежде от Дружелюбовки до разъезда считалось шесть километров. Строители промерили — девять вышло. И вот мне один старик наш, Шумейко Иван Афанасьевич, говорит: «Им что! Они намерили да уехали, а нам теперь три километра лишних ходи». Разве что из этих скрытых резервов подзанять?
Все смеются. Назарук жует в это время и потому только молча грозит вилкой.
— Ты жуй, жуй, — оберегает его Лидия. — Ему врач рекомендовал как можно лучше прожевывать. Надо делать тридцать пять жевков, а он спешит глотать.
Тогда и Шура спохватилась, что она совсем не ухаживает за мужем:
— Федя, ты же лук любишь. Возьми лук.
— В нашем доме, Федор Иванович, не стесняются. У нас все по-простому, по-родственному.
— Хочешь, принесу тебе горчицы? — интимно спрашивает Шура, и вовсе не о горчице, а о том, что он самый лучший, самый дорогой ее человек, говорят глаза Шуры, глядящие на Федора.
— Ты не беспокойся, — говорит Григорьев. Он не умеет проявлять свои чувства при посторонних и только ласково трогает Шурину руку, чтобы предупредить дальнейшее усердие, стесняющее его.
В это время Назарук случайно глянул на Светлану и так и остался с открытым ртом, беззвучно смеясь. Он тихонько толкнул Шуру, та обернулась и встретила ненавидящий взгляд Светланы. Светлана вскочила, со злыми слезами в глазах выбежала в дверь.
— Нет, каково: ревнует!
— Геннадий! — остановила его Лидия, считающая себя педагогом.
— Я пойду поговорю с ней, — сказала Шура виновато и растроганно.
А минуту спустя Назарук, грозя вилкой, уже доказывал Григорьеву:
— Это ты неправильно ставишь вопрос! Есть установка расширять посевные площади? Есть. И мы не можем в таком важном мероприятии отстать от других. Если ты этого не понимаешь, значит, ты не понимаешь духа времени.
— По-твоему выходит, если министр бреет голову, так и все министерство остричь наголо? Насчет духа времени не знаю, а вот хлеб у нас выгорает. Редкий год удается семена вернуть. Потому-то у нас овечка в королевах ходит, овечка — богатство наше. Распашем пастбища — всех оставим голодными. А ведь это тысячи народа. Вон «Правда» на днях писала, как в Казахстане распахали солонец и лесные полосы, а рядом замечательная целина лежала. Так тоже бывает, если дело ради отчета делается, лишь бы от других не отстать.
В коридоре Шура стучит в комнату Светланы.
— Света, открой. Тишина за дверью.
— Открой, Светленькая.
Постояв перед закрытой дверью, Шура идет в кухню.
— Ревнует, — говорит она матери растроганно. Мария Кузьминична уже ждала ее здесь.
— Я тебя, дочка, что просить хочу, — и она заискивающе заглядывает в глаза Шуре. — Может, возьмешь к себе письменный стол отца?
Шура теперь только замечает в кухне отцовский письменный стол. Он стоит рядом с раковиной, на нем брызги воды, на него составлена грязная посуда.
— Мамочка, переезжай к нам, родная, — просит Шура. — У Феди никого нет. Родителей его в войну немцы замучили. За то, что в партизанах был. Он только рад будет, если ты переедешь.
И вот уже не только через Шуру, а этим своим пережитым горем Григорьев становится для Марии Кузьминичны близким человеком, уже за него душа болит.
— На Андрюшу нашего как будто похож он. И рост у них одинаковый, и Андрюше сейчас бы тоже было тридцать лет. Ох, ведь ждут нас там.
Захватив первое, обе идут в столовую. Здесь уже все трое стоят по разным углам, Лидия поправляет в вазочке цветы. К столу никто не идет. Молчание. Общая отчужденность.
Тогда Мария Кузьминична, поставив миску с супом на стол, говорит голосом хозяйки:
— Прошу всех к столу.
Она в своем доме, это ее дочь, ее Шура вышла замуж, и она хочет, чтобы все было достойно, как при отце. Тем же тоном хозяйки дома, как она не раз говаривала при Василии Ивановиче, она произносит это «Прошу всех к столу».
Все идут к столу. Усевшись прочно, переложив у своего прибора ножи, вилки, Назарук говорит:
— Когда речь идет об интересах страны, — он обращается не к Григорьеву, а к матери, — иной раз приходится поступаться своими маленькими районными интересами. Как известно, в свое время в России были картофельные бунты. Те, кто не хотел сажать картошку, тоже путали сводками десятилетней давности: дескать, у нас она сроду не росла и не родилась. А сейчас без картошки, — он обводит рукой стол, — ни один нормальный человек существовать не может. Ясно, думаю? Между прочим, этим мы, марксисты, отличаемся от обывателей: для нас государственный интерес выше личных.
Выслушав всю эту длинную назидательную речь, мать говорит только два слова:
— Кушайте, кушайте.
Обычно, когда уходят гости, хозяева начинают обсуждать их. Тем более такой случай: новый родственник вошел в семью. Но родственник-то новый, а отношения с первых же встреч установились неродственные. И Геннадий Павлович, нервничая, говорит жене:
— Не могу же я теперь пойти на попятную. Секретарь обкома дал обязательство расширить посевные площади, а проект-то готовил ему я. Я нашел скрытые резервы. А как я мог не найти, когда все берут новые, повышенные! Дух времени! А я — заведующий сельхозотделом обкома партии, только что назначен. От меня ждут смелости, инициативы, реальных дел. В наше время отсталых бьют.
— Но, Геннадий, а если вы распашете, — она делает жест человека, не очень уверенно чувствующего себя во всех этих специальных терминах, — словом, все это сделаете, а урожая не будет? Ты понимаешь, чем это для нас может обернуться?
— Но что, что ты мне предлагаешь сейчас? Пойти к Патанину, покаяться? Он тоже недавно назначен секретарем обкома, он должен оправдывать доверие, выполнять взятые обязательства, а не отказываться от них. Он меня жалеть не станет.
— Просто Григорьев тебе завидует, — с внезапно прорвавшейся ненавистью говорит Лидия. — Я тебе всегда говорю: у нас друзей нет. Все злые,