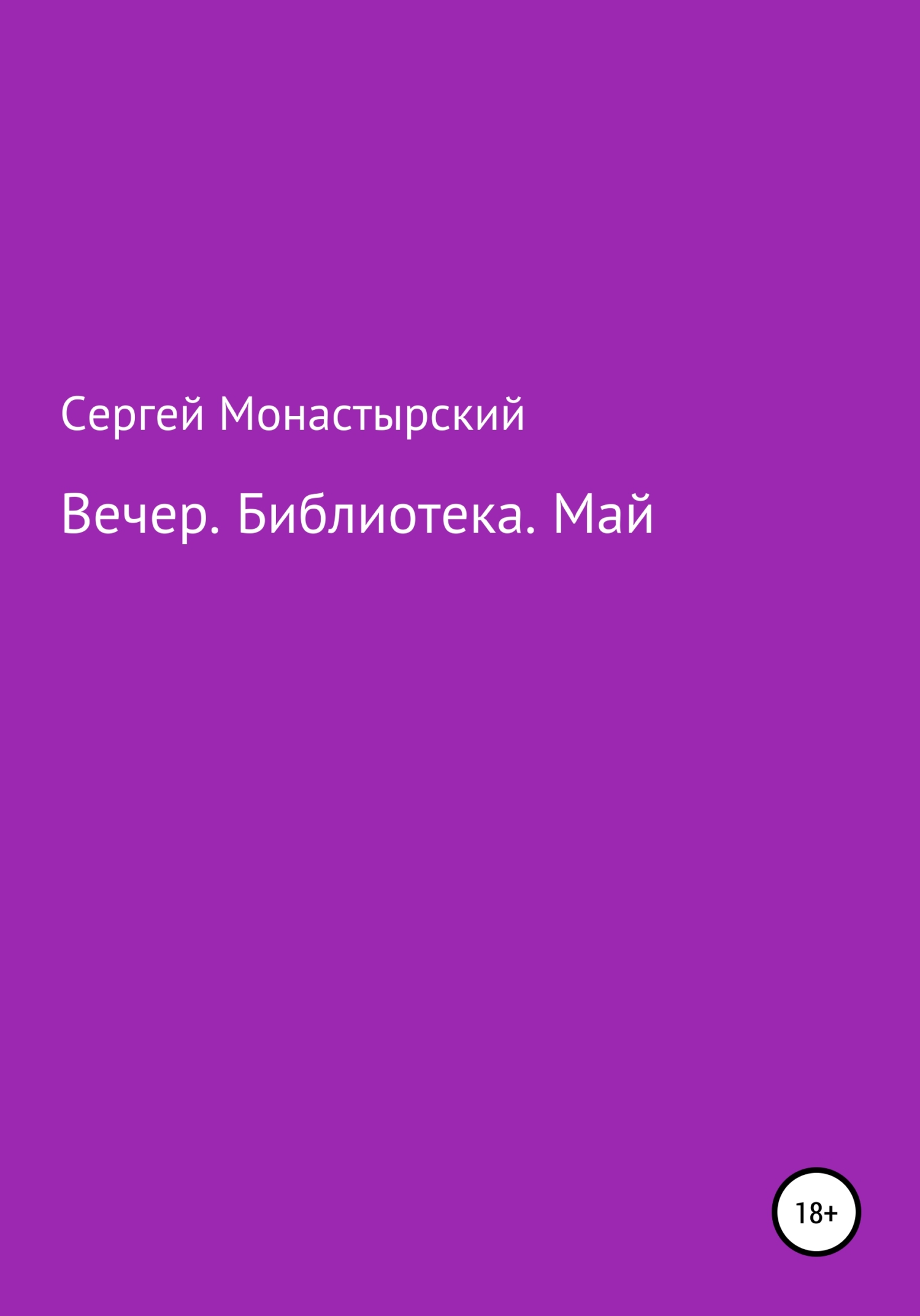тебе сказала: пока яйцо не съешь, в школу не пойдешь. Вот! — Лидия решительно солит.
— Да уже солила! — взвизгивает Светлана.
Назарук приседает, методично дыша через нос: вдох — выдох.
Спешно доев, Светлана хватает ранец, стоявший наготове у ножки стола, бежит в переднюю, на ходу вытирает рот. За ней торопится мать, что-то поправляя сзади на платье. Мария Кузьминична выносит грязную посуду, вносит чистую. Она делает все бесшумно и молча, и каждое ее движение зять, приседая, провожает глазами. Вот она внесла чайник, поставила на подставку и не заметила, что носик направлен в сторону нового шкафа. Из носика валит пар. Он может сесть на полировку.
— Мамаша, — говорит зять, как бы устав возмущаться. Вошедшая Лидия с одного взгляда оценивает обстановку.
— Поражаюсь! — говорит она. После утреннего кормления Светланы ей нужна только искра, чтобы вспыхнуть. — Как это не уметь ценить вещи!
Геннадий Павлович, повесив мохнатое полотенце на плечо, вышел. Лидия взглядом проводила его:
— Вы сами жизнь без вещей прожили, но из этого не следует, что и мы так должны жить. И, пожалуйста, не спорь. Вы не умели жить. Я вспоминаю: когда я выходила замуж, вы мне дали две простыни. Я мужа стеснялась.
— Что уж ты, дочка, так нас простынями коришь, забыть не можешь. Мы тебе жизнь дали, образование ты получила, а уж простыни сами наживете.
Говоря так, Мария Кузьминична смотрит на карточку мужа, стоящую на письменном столе. Василий Иванович снят в степи перед грозой. От поднявшегося ветра уже прилипла рубашка к его груди. Жмурясь, он с радостным ожиданием смотрит на приближающуюся тучу, несущую в себе и молнии, и гром, и новый, еще более сильный порыв ветра.
— Дорогое захочешь, так не вернешь, а простыни-то…
И Мария Кузьминична, взяв со стола, прячет под кофтой карточку мужа: незачем ей стоять здесь.
Входит Геннадий Павлович, уже одетый, без пиджака только. По утрам, после гимнастики, когда он чувствует каждый мускул своего тела, настроение у него бывает хорошее. Сегодня же оно особенно хорошее.
— Что это Шурок умчалась ни свет ни заря? Вы не знаете, мамаша? — спрашивает он, причесывая мокрые волосы. — Я уж соскучился по нашей колхознице.
— Спешила. Говорит, рано поспеть нужно.
— Спешила. Ну вот погодите, я ей хорошего жениха найду, враз перестанет спешить.
— Без тебя нашли, кажется, — говорит Лидия. — Кстати, ты не знаешь, что за человек этот Григорьев из Мусатовского района?
— Григорьев? Так это он?
Назарук вдруг начинает хохотать сочно, аппетитно.
— Ай, Шурка! Ай, колхозница! Нет, но девка-то какова! Не промахнулась. Так надо же их пригласить, раз дело такое. Звать, звать обязательно!
Он ходит по комнате, делая широкие, обнимающие жесты, как бы сгребая всех в кучу. Он сейчас в силе и потому особенно щедр на родственные чувства.
И вот Назарук, держа Григорьева за галстук и подтягивая ему узел к горлу, что он всегда делает в знак особенного расположения, если, разумеется, имеет дело не с начальством, говорит:
— Зять любит взять. Но ты хоть понимаешь, что ты у нас взял, кого, так сказать?
Сестры тем временем вдвоем расстилают на обеденный стол крахмальную скатерть. Шура стелет и весело прислушивается к разговору. И потому, что говорят про нее с Федором, она тут же подходит к мужчинам.
— Тебе что налить, колхозница? — встречает ее Назарук, разливавший водку. Это пока что так, перед обедом, у тумбочки, на которую составлены закуски. — Красненького?
— Нет, я водки выпью, — расхрабрившись, говорит Шура, за ласковым одобрением оглядываясь на Григорьева.
— Видал колхозницу? — кивает на нее Назарук с видом: «А что я тебе говорил?»
Григорьев только улыбается сдержанно, Со стороны трогательно смотреть на него с Шурой. Они все время стараются быть рядом, полагая, что это незаметно. И они страшно предупредительны друг к другу, как только бывают предупредительны люди в первые месяцы семейной жизни. Только Светлана ненавидяще поглядывает на Григорьева, а Шуру, свою любимую тетку, она вообще не замечает. Она сидит на диване, ест корку черного хлеба — и так бывает у сытых детей — и независимо качает ногой.
— В нашем доме, Федор Иванович, не стесняются, — издали говорит Лидия, раскладывая ножи, и в движениях ее мягкость. — У нас все по-простому, по-родственному.
— А ведь мы с ним, Шурка, на одном фронте воевали, что называется, из одного котелка ели. Да-а, фронт, — вздохнул Назарук. — Незабываемое время. Помнишь Глубокую? Э, да что говорить? Можно сказать, юность наша.
Он снова поставил рюмку и, горько махнув рукой, достает гомеопатические крупинки, по счету кладет на язык. Ищет запить, воды под рукой не оказывается, молча — рот занят — чокается с Григорьевым и запивает водкой. Потом закусывает, жует, глаза увлажняются, а на лице все то же огорченное выражение.
— Их не надо запивать! — спохватывается Лидия. — Их надо просто держать под языком.
— Вот черт, опять забыл.
— Что это ты? — интересуется Григорьев.
— А! — махнул Назарук. — Гомеопаты наградили. Вот принимаю. Понимаешь, здоровье стало ни к черту. Работа адовая. Ты — секретарь райкома. Легко тебе? А на мне — сельхозотдел обкома! Соответственно и нагрузка на сердце.
С того момента, как заговорили о фронте, Мария Кузьминична ждала случая опросить Григорьева. Наконец, дождавшись паузы, спрашивает с робкой надеждой:
— Вы в какой местности воевали?
— На Третьем Украинском фронте.
— А на Первом Белорусском не пришлось вам побывать?
— Не пришлось. И в партизанах был на этом направлении, и воевал все на Третьем Украинском.
Так уж установилось в этой семье со смертью Василия Ивановича, что всякое слово, сказанное матерью, звучит неуместно. И Лидия, стесняясь, сейчас же поспешила пояснить:
— У нас Андрей, старший брат мой, воевал на Первом. Белорусском фронте. И мама все надеется встретить человека, видевшего его там. Я уже вам объясняла, мама: встретить знакомого на фронте было так же трудно, как, скажем, встретить знакомого в Москве, если вы не знаете его адреса. Дело в том, что вы никогда не были в Москве, а ведь это просто понять.
— Да, ты мне объясняла. Понять это просто…
И Мария Кузьминична, взяв полотенце, идет на кухню.
— Вот вы обижаетесь, — пока она еще не ушла, спешит сказать Лидия. — А в самом деле, нельзя же всякий разговор сводить на войну. Прошло столько лет, как она кончилась, война отошла теперь в прошлое.
— Как же так она отойдет для меня в прошлое, когда у меня на этой войне сын погиб?
Она уходит. И как-то не по себе становится и Григорьеву и Шуре. Трудно глянуть в глаза Назаруку, Лидии — что-то незримое пролегло между