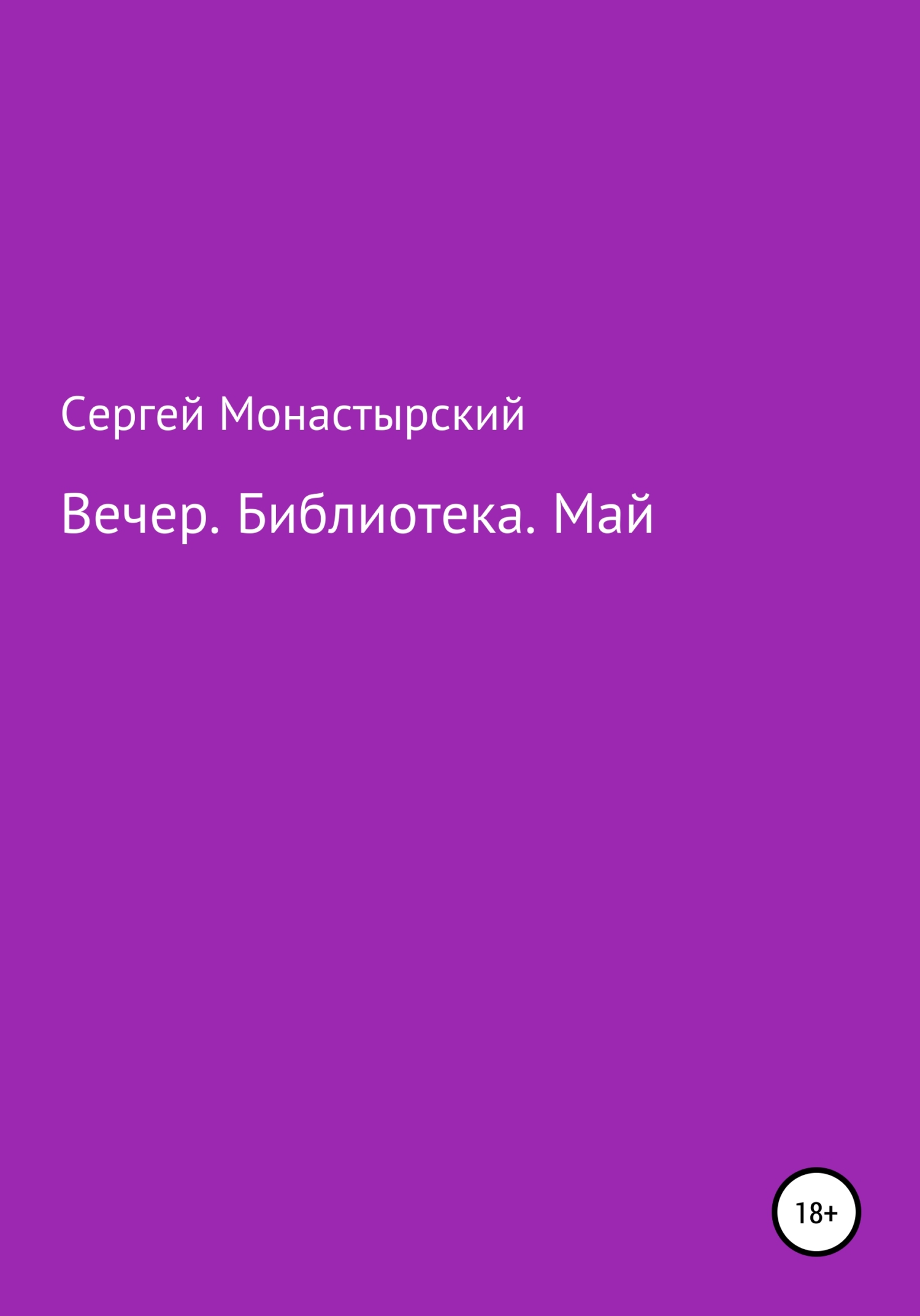лампа, фитиль экономно прикручен. Бревенчатые стены, печь, лавка, на лавке ведро с водой. За занавеской хозяйская половина. Они только недавно вошли в избу, разделись, положили вещи.
Из-за занавески с глиняной миской в руках выходит хозяйка, шаркая босыми ногами по полу. Наклоненная голова ее повязана темным платком, лица не видно. Она ставит миску со щами на стол, ставит деревянную солонку, кладет черный хлеб, кухонный нож, две деревянные ложки — все это молча. Так же молча уходит.
— Ну вот, Маша, мы и начинаем с тобой жить посемейному, — говорит Василий Иванович. Он молодой, веселый, полный сил. — Где мы с тобой, там и дом наш. Давай будем ужинать, мы ж еще и не обедали сегодня.
Они садятся друг против друга, зачерпывают по ложке, каждый несет эту первую ложку ко рту. Звон разбитого стекла, от ветра гаснет лампа. В темноте быстрый, властный голос Василия Ивановича:
— За стену стань!
За окном на улице ночной, разбойный свист. Второй камень ударяется в стену. Топот бегущих ног.
Подождав еще, Василий Иванович завешивает окно одеялом, снова зажигает лампу. И еще мрачней кажется изба с окном, завешанным лоскутным одеялом, из которого клоками торчит вата.
На столе — черепки разбитой миски, мокрый булыжник в лохмотьях капусты, рядом с ним кусок еще горячего мяса, от которого идет пар. На пол со стола капают щи.
Мария Кузьминична все так же стоит, прижавшись спиной к стене. Поглядывая на нее, Василий Иванович завязывает свою пораненную руку, зубами затягивает узел. Подходит.
— Ну вот, Маша…
Гладит ее по волосам. Ткнувшись лбом ему в грудь, Мария Кузьминична начинает плакать навзрыд, плечи, спина у нее вздрагивают.
На хозяйской половине как будто вымерло все.
— Это ничего, это ты просто напугалась, — говорит он и все гладит ее волосы. — Ничего, ничего…
И он неумело говорит ей ласковые слова:
— Ты хорошая, Маша. Я тебе даже так скажу: ты самая лучшая. И ты всегда мне будешь самая лучшая. Ты это знай, Маша. Вот только пугаться не надо. Землю, ее так просто не отдают. За землю всегда борьба. Сколько мир стоит, столько между людьми борьба за землю, за то, как на ней жизнь устроить лучше. Еще и детям нашим хватит достаточно.
Входит хозяйка, все так же шаркая подошвами. Лезет рукой под одеяло, ощупывает выбитое стекло: велик ли убыток? И после, собирая черепки на столе, ворчит:
— Стекла, они денег стоят. Их теперь не укупишь, стекла-то!..
Уцелевший кусок мяса она, оглядев, кладет в самый большой черепок и уносит за занавеску. На мокром столе остается перевернутая солонка, хлеб, одна ложка, — другая, раздавленная, валяется на полу. Есть нечего. Василий Иванович оглядывает стол:
— Ты, Маша, есть-то хочешь? — спрашивает он весело. — Не хочешь? Ну, вот и хорошо. Я тоже не хочу. Я сейчас, знаешь, чайку поставлю. Вот чайку мы с тобой попьем. Ты пока сядь, я лучинок нащеплю.
И он здоровой рукой колет лучину, разжигает костерик на шестке. Отблеском этого костерика освещено лицо Марии Кузьминичны, подошедшей к мужу, глаза ее, полные любви и благодарности.
— Это я, Вася, не привыкла еще, — говорит она виновато. — Я привыкну. Дай я сама…
Гаснет свет костерика. Гаснет воспоминание. Черное оконное стекло, кухня. На стуле сидит Шура. Теперь она с другим человеком об руку вступает в жизнь.
— Был бы только хороший, легкий человек, и ничего тогда не страшно, — говорит Мария Кузьминична, вздохнув. — Я с Васей жизнь, как день, прожила и всем-то ему в жизни обязана.
Она вдруг спохватывается:
— В твоей комнате Светлана спит, так мы здесь, не будить чтоб…
— А я никуда отсюда не хочу, — говорит Шура, оглядывая стены кухни и улыбаясь им. — Помнишь, как я, бывало, с катка вернусь, все уже спят давно, а ты меня здесь чаем поишь? Давай, мамочка, посидим, как прежде. Ты меня покормишь? Я смертельно хочу есть.
— Сейчас, сейчас, — заторопилась Мария Кузьминична. Она подбирает выше развешанные над плитой, только что выстиранные Светланины платья, школьные передники, зажигает газ.
— Мамочка, — говорит Шура. — Ты будешь жить с нами. И не спорь, пожалуйста, это решено.
Мария Кузьминична стоит к ней спиной. Она, конечно, никуда не поедет от Светланы, но сказанное сейчас Шурой для нее как ласка.
— Не спросила я, зовут его как?
— Федя.
— Федя, — повторяет Мария Кузьминична задумчиво, как бы пробуя на слух это имя. — Хорошо.
Никем не замеченная входит Светлана в белой ночной рубашке до пят и босиком.
— Шура приехала! Шура приехала! — и, прыгнув к ней на колени, изо всех сил душит Шуру. — Опять завтра к своим овцам уедешь?
— Светленькая моя, — говорит Шура, ладонью обтерев ступни ее ног, и натягивает на них подол рубашки: так теплей.
Светлана обиделась даже:
— Что я, маленькая?
— Вон видишь мисочку на полке? — спрашивает Шура. — Так в той мисочке я тебя купала. И ты для меня всегда будешь маленькая. — Она достает из сумочки шоколадку с яркой детской картинкой.
Мария Кузьминична от плиты любуется на них.
— Вот в этой маленькой? — не может поверить Светлана и совершенно между прочим, как должное, берет шоколадку.
— Ты была еще меньше. К тебе все боялись подходить. Ты была красная и ужасно крикливая — один кричащий рот. А к пяти годам ты переболела всеми болезнями, какие существуют на земном шаре. И когда у тебя подымалась температура, ты вот так жалобно говорила: «Шура, что-то плохо спится». И по целым ночам держала мою руку.
Светлана задумывается.
— А почему около меня сидела ты, а не мама? — неожиданно спрашивает она, стараясь что-то понять.
— Ну, значит, мама была занята в то время, — нашлась Шура. — А вообще все почемучки давно спят.
И, подхватив Светлану на руки, она несет ее в спальную; в темном коридоре, удаляясь, мелькают на весу белые Светланины ноги.
Утро в квартире Назаруков. Геннадий Павлович в трусах делает гимнастику: приседает под радио.
— Раз, два, три, четыре, — диктует радио.
«Раз, два, три, четыре» — приседает Назарук, дыша через нос: вдох — выдох, вдох — выдох.
Мария Кузьминична накрывает стол к завтраку. На уголке кончает завтракать Светлана, торопящаяся в школу. Над ней стоит мать в халате, еще не причесанная, только заколов волосы, говорит с утра уже нервным голосом:
— А я тебе говорю, ты успеешь!
— Да-а, — хнычет Светлана, — ты и вчера так говорила, а потом от учительницы не тебе досталось, а мне.
— Безобразие! — взгляд в сторону Марии Кузьминичны. — В два часа ночи всякие разговоры с ребенком, конечно, она после этого не может встать утром вовремя. Я