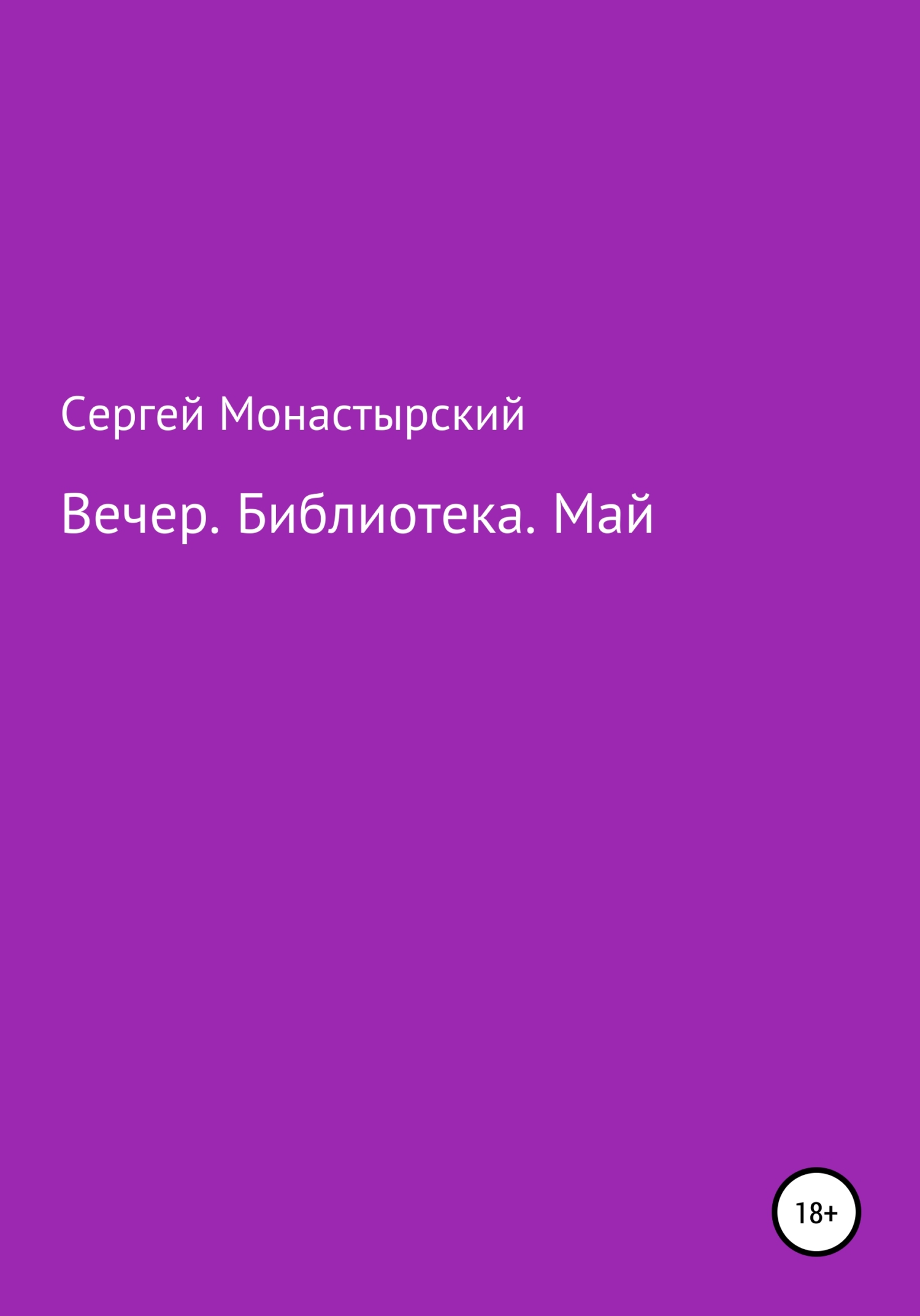с Анисимом Родионовичем очень остались довольны.
И по многолетней привычке тут же оглядывается на мужа, не сказала ли что-нибудь лишнее. Но Грибанов только крякает, рассматривая носки чужих и своих ботинок.
— Так просто перед вами неловко, — в один голос с Грибановой оправдывается Лидия. — Ровно ничего не успели приготовить. Он мне в последний момент сказал.
— Мое дело было обеспечить по рюмке чая, — бодрится Назарук.
— Мы с Анисимом Родионовичем остались очень довольны.
Грибанов кряхтит, супруга мгновенно умолкает. Молча Грибанов подает руку. Он начальство и потому подает руку первым даже женщине.
— А насчет того, что мы говорили, ты, Геннадий Павлович, подумай. Подумай. Сейчас инициатива требуется. Вот так. Поддержим.
Все это он говорит, держа в своей руке руку Лидии и не глядя на нее.
Проводив гостей, Назаруки возвращаются в квартиру. Лидия идет на кухню. Мария Кузьминична уже кончает прибирать, осталась только чайная посуда.
— Не знаю, зачем все это нужно делать сегодня, — говорит Лидия. Ей все же неловко взваливать все на мать, но вместе с тем спать хочется. — Вполне можно не спеша сделать завтра.
— Я и прежде никогда не оставляла посуду на завтра. Мне уж поздно переучиваться.
— Я прекрасно понимаю, по какому поводу эта демонстрация. Да, мы заводим новую обстановку. К нам большие люди ходят. А у вас вся память в вещах. Мне стыдно было сегодня перед Анисимом Родионовичем…
— Не думала я, дочка, что ты отца своего будешь стесняться. И что они за такие особенные люди? Поели, попили и ушли. Еще кусков на тарелках понабросали вон сколько. Ну, да то их дело. Значит, привыкли так. А вот зачем было перед ними Светлану ломать? Не котенок она. И не обезьяна на веревке. Ей уже двенадцать лет. А были б они хорошие люди, они б тебе это сказали. И не курили б в это время.
— Вы меня не учите! — вспыхнула Лидия тем горячее, что где-то в глубине души ей стыдно было именно этого случая со Светланой. — Жалею только, что раньше от вас ребенка не забрала. Мы свою дочь не в дворники готовим и не в поломойки. Мне хорошо известно, как вы прожили жизнь. Отец — участник гражданской войны, старый член партии, а как был прежде землеустроителем, так и остался им.
— Вот видишь, а он любил землю и от профессии своей не отказывался. Все мы на земле живем, ею кормимся, что ж нам от нее стремиться? Может, не перевели б отца твоего в учреждение, да не навались там на него все эти неприятности, жил бы он и до сих пор. Ты вот осуждаешь, что отец твой землеустроителем остался, а он свою профессию почетной считал, говорил: «Главное — жизнь на земле устроить к лучшему».
— Вы всегда повторяли чьи-нибудь слова. В конце концов мне это было бы глубоко безразлично, если б вы мою дочь не калечили. Ей еще предстоит жизнь прожить.
И Лидия, возмущенная, уходит в комнаты.
— Просто у меня нервов не хватает с этой матерью, — говорит она мужу.
А у Геннадия Павловича прилив сил:
— Все хорошо, Лидок, все хорошо будет.
Шура Куприянова и Григорьев идут улицей города. Это степной южный город. Деревья разросшимися вершинами касаются окон второго этажа, и Шура и Григорьев идут в этом слабо освещенном туннеле. Под деревьями на газонах белым-бело — цветут распустившиеся к ночи табаки.
— Так за маму душа болит, — говорит Шура. — Одиноко ей там. Он, может быть, и неплохой человек, муж моей сестры. Даже наверняка неплохой. Знаешь, заботливый такой, родственный. Вот в отношении меня он всегда страшно заботлив и бывает даже трогателен. Но не знаю, я б с ним дня не вынесла. А мама у меня тихая, маленькая. Она не только нам, она вообще всем людям мать. Я знаю, ты к ней будешь хорошо относиться.
И Шура снизу вверх благодарно смотрит на него.
— Я совершенно теперь не помню, какой ты был, когда мы первый раз встретились у Фроловых, помнишь? — говорит вдруг Шура. — У тебя был какой-то лоб, какие-то скулы — все совершенно не такое, как сейчас. Понимаешь, это было чужое лицо. И мне в нем что-то могло нравиться, что-то не нравиться, но это было лицо чужого человека. А сейчас я не знаю, красивый ты или некрасивый, я вообще не знаю, какой ты для посторонних глаз. Вот все, каждая черточка сейчас родная, а того, чужого человека, нет, и я не могу его вспомнить.
Шура и Григорьев стоят у подъезда дома. Во всем доме освещены только несколько окон. И горит огонь в окне кухни на втором этаже. Снизу видно, как, развешанное на веревке, наверно над газом, шевелится белье.
— Мама еще не спит, — говорит Шура.
Свет в окне второго этажа гаснет.
— Ну, я пошла, — говорит Шура. Ей не хочется уходить, и она из глубины подъезда еще раз прощально машет рукой Григорьеву.
Тишина в квартире Назаруков. Спящие лица обоих. Но и во сне Геннадия Павловича тревожат перспективы. Он спит беспокойно. В противоположность ему Лидия полна достоинства. «Можете не волноваться, я себя сумею поставить», — написано на ее лице.
Короткий звонок.
Геннадий Павлович вздохнул, потревожился. Оба сонно повернулись на другой бок.
Мария Кузьминична, только что погасившая свет, снова включает его в коридоре, идет открывать дверь. На пороге — Шура. В светлом платье, женственная, трогательная, она так и светится счастьем. Только любовь делает женщину такой красивой. Мария Кузьминична впервые видит Шуру такой.
Шура вдруг горячо целует мать, говорит шепотом:
— Здравствуй, мамочка.
Когда мы счастливы, мы щедры, нам хочется, чтоб и все вокруг нас были счастливы. И почему-то в это время мы чувствуем себя немного виноватыми перед нашими стариками.
Мария Кузьминична ведет Шуру на кухню и там, вглядевшись еще раз, спрашивает робко, потому что Шура, взрослая и самостоятельная, может уже не посвящать ее в свои дела:
— У тебя радость?
— Радость, мамочка.
Мать берет ее лицо в ладони, целует один висок, целует другой, целует Шурины брови.
— Слава богу. Был бы только хороший человек.
— Он хороший, мама.
— Я не знаю его?
— Нет, мамочка, ты его никогда не видела. Но, может быть, слышала о нем. Это секретарь нашего райкома партии Григорьев. Он папу хорошо знал.
— Слава богу, — глядя в черные стекла окна, говорит Мария Кузьминична задумчиво. И в памяти ее возникает другое время и они с Василием Ивановичем, такие же молодые, только начинавшие строить жизнь.
…Двадцатый год. Темная изба. Под низким потолком горит керосиновая