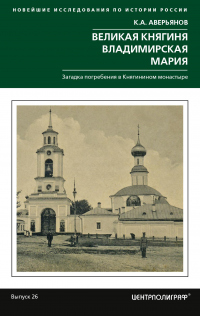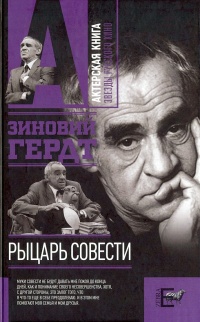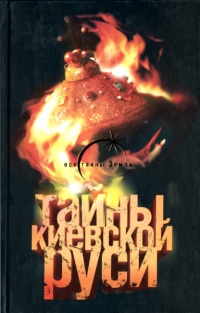— Я никогда не говорила «никто». Я лишь говорила, можно было найти кого-нибудь получше, чем она.
— Эй, — сказал я и вскинул руку. — Полегче. — Моя жена делала пренебрежительные замечания о моей сестре, а моя сестра делала пренебрежительные замечания о моей жене, и я слушал их обеих, потому что противостоять этому было невозможно. В течение многих лет я старался сломить их привычки, защитить честь одной перед другой, и в итоге смирился. Тем не менее были пределы тому, как далеко они могли зайти, и они обе это знали.
Мэйв посмотрела в окно на дом.
— У Селесты красивые дети, — сказала она.
— Спасибо.
— Уж точно не в нее пошли.
Как бы мне хотелось, чтобы мы все жили в мире, где у каждого мужчины, каждой женщины и ребенка было устройство для аудиозаписи, фото- и видеосъемки. Мне бы хотелось иметь более непреложные, чем моя собственная память, доказательства, поскольку в этом ни от сестры, ни от жены поддержки не дождешься: подвезти Селесту предложила Мэйв, и именно в нее поначалу влюбилась Селеста. Тем заснеженным вечером 1968-го, пока мы добирались от вокзала до дома родителей Селесты в Райдале, Мэйв излучала тепло, достаточное для того, чтобы растопить гололедицу на дорогах. Селеста сидела на заднем сиденье, втиснувшись между нашими чемоданами и подтянув колени, потому что на заднем сиденье «жука» было слишком мало места. Мэйв то и дело поглядывала в зеркало заднего вида, засыпая Селесту вопросами. Где она учится?
Селеста училась на втором курсе колледжа Томаса Мора. «Я говорю себе, что это Фордем»[6].
— Вот туда было бы здорово поступить. Я хотела учиться у иезуитов.
— А где ты училась? — спросила Селеста.
Мэйв вздохнула:
— В Барнарде. Получила там стипендию, вот и все.
Насколько мне было известно, никакой стипендии Мэйв не получала.
— Что ты изучаешь? — спросила Мэйв.
— Англоязычную литературу, — сказала Селеста. — В этом семестре — американскую поэзию двадцатого века.
— Поэзия — мой любимый курс! — Мэйв вскинула брови в изумлении. — Впрочем, теперь я читаю меньше, чем хотелось бы. Этим хорош колледж: когда чтение обязательно, время на него хочешь не хочешь отыщется.
— Ты изучала поэзию? — спросил я сестру.
— Дом так печален, — стала декламировать Мэйв. — Весь его уют устроен для уехавших недавно. Вернуть бы их. Но некого уж тут пленять, и он стоит себе бесславно…[7]
Убедившись, что Мэйв взяла паузу, Селеста продолжила более мягким тоном:
— Но воскресить дни первого экстаза, когда в вещах дыхание души еще светилось. Это видно сразу: взгляните на картины, на ножи. Те ноты у рояля. Эту вазу…
— Ларкин! — вскричали обе. Казалось, они прямо сейчас поженятся. Такая между ними в тот момент была любовь.
Я посмотрел на Мэйв в изумлении:
— Откуда ты вообще это знаешь?
— Я не особо обсуждала с ним список предметов. — Мэйв рассмеялась, кивая в мою сторону, и Селеста рассмеялась в ответ.
— А какая у тебя была специализация? — спросила Селеста. Теперь, когда я повернулся, чтобы посмотреть на нее, она представлялась мне неразгаданной загадкой. Они обе.
— Бухучет. — Мэйв переключилась на пониженную передачу, хлопнув открытой ладонью, и мы мягко заскользили вниз по заснеженному склону. Минуя реку, через лес. — Очень скучно, очень практично. Мне нужно было зарабатывать на жизнь.
— Да, конечно. — Селеста кивнула.
Но Мэйв не изучала бухучет. В Барнарде не было такой дисциплины. Она изучала математику. И была первой на курсе. Бухучет был ее профессией, но не специальностью. Бухучетом она могла заниматься не приходя в сознание.
— О, эта миленькая епископальная церковь. — Мэйв сбросила скорость на Хоумстед-роуд. — Я была там однажды, на свадьбе. Когда я училась в школе, монахинь бы удар хватил, узнай они, что я ступила на порог протестантской церкви.
Селеста кивнула, понятия не имея, что прямо сейчас сдает экзамен. Колледж Томаса Мора был иезуитским, но это вовсе не значило, что девушка на заднем сиденье была католичкой.
— Мы ходим в храм Святой Хилари.
Значит, католичка.
Дом, к которому мы подъехали, был значительно меньше, чем Голландский дом, но в разы грандиознее, чем клетушка на третьем этаже, в которой по-прежнему жила Мэйв. Это был солидный, обшитый вагонкой дом в колониальном стиле, выкрашенный желтой краской, с белым декором; во дворе стояли два голых клена, к одному из них были приделаны веревочные качели. Такой дом наводит на рассеянные мысли о счастливом детстве, хотя в случае Селесты так оно и было.
— Спасибо вам огромное, — начала Селеста, но Мэйв ее прервала:
— Мы тебя проводим.
— Да я…
— Мы все равно уже здесь, — сказала Мэйв, глуша мотор. — Проводить тебя до двери — такая малость.
Мне все равно пришлось бы вылезти. Я притянул сиденье вперед и нагнул спинку, чтобы Селеста смогла выбраться, потом взял ее сумку. Ее отец все еще был на работе, ставил пломбы допоздна, потому что в День благодарения и на следующий день стоматологический кабинет будет закрыт. Люди приехали домой на праздники и привезли с собой свою зубную боль. Два младших брата Селесты смотрели телевизор с друзьями и поприветствовали ее криками, но подняться с дивана не потрудились. Гораздо более теплый прием оказал ей черный лабрадор по кличке Пухляш. «Вообще мы его назвали Ларри, но когда он вырос, то стал таким пухляшом», — сказала Селеста.
Мать Селесты была дружелюбна и тороплива — она готовила ужин для двадцати двух родственников, которые должны были приехать на следующее утро. Ничего удивительного, что она забыла забрать со станции свое дитя под номером три. (Всего детей у Норкроссов было пятеро.) После того как они познакомились, Мэйв попросила Селесту написать на клочке бумаги номер ее телефона, сказав, что она время от времени ездит в город и может подвезти, и даже пообещала в следующий раз переднее сиденье. Селеста была благодарна — как и ее мать, помешивавшая клюкву в кастрюле на плите.
— Вы должны остаться на ужин. Это будет моя благодарность! — сказала мама Селесты и тут же осознала свою ошибку: — Ой, да что я говорю! Ты только вернулся домой. Из Колумбийского! Родители небось ждут не дождутся.
Мэйв поблагодарила ее, они обнялись с Селестой (мне досталось лишь рукопожатие). Мы вышли на заснеженную подъездную дорожку. Казалось, в каждом доме горят огни — весь район был освещен. Все в Райдале собрались на День благодарения у своих домашних очагов.