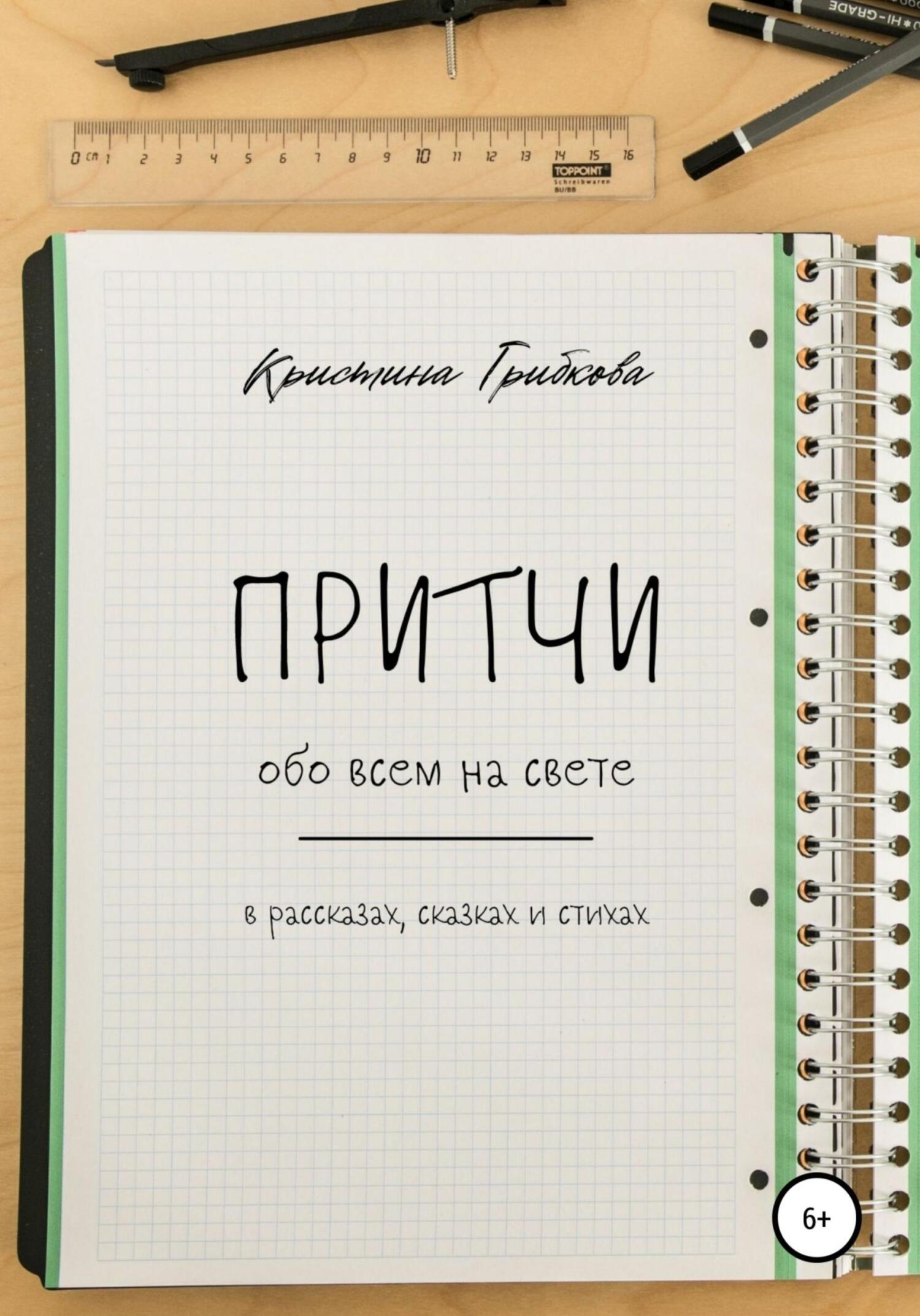и с его народом, стоящему жизни, здоровья и свободы десятков миллионов невинных людей. Порою, это чувство в нем настолько обострялось, что он не смел смотреть открыто в глаза своим односельчанам, силой загнанным в колхоз, оборванным, жалким и озлобленным.
Но однажды случай, сам по себе неприметный, вызвал в партийной душе Минаса перелом, сделал жизнь его окончательно невыносимой. Это произошло незадолго до его болезни. Раз, осматривая скотный двор, он увидел 12-тилетнюю Ашхэн, дочь „раскулаченного“13 и умершего в ссылке Хачо Габриэляна. Она была старшей в семье, и теперь, зарабатывая трудодни14, работала в колхозе скотницей. Отец девочки был известен всему селу своим трудолюбием, трезвостью и бережливостью, чем и укрепил свое хозяйство, всегда вставая первым, а ложась последним на селе. Это было его единственной „виной“. Один из многих, он попал в „кулаки“15 по проискам своих завистников, местных лодырей и пропойц, членов сельской партячейки16. Все это было известно Минасу лучше, чем кому бы то ни было.
В тот достопамятный день, Ашхэн попалась ему навстречу с двумя тяжелыми ведрами свежего кизяка в своих тонких руках. Ее покрасневшие от стужи босые ноги в рваных опорках по щиколку утопали в зеленой и вонючей навозной жиже. Грустными большими глазами на осунувшемся личике, девочка как-то не по-детски взглянула на парторга. Этот страдальческий взгляд ребенка пронзил сердце Минаса и глубоко запал ему в душу. Чтобы скрыть охватившее его волнение, он отвернулся и о чем то заговорил с сопровождавшим его председателем колхоза.
После этого Минас лишился последнего покоя. Широко раскрытые черные глаза Ашхэн с немым упреком всюду следовали за ним. Во время болезни, в длинные зимние ночи, она не раз являлась ему, держась за руку отца. Оба молча глядели на больного с тем же жалобным выражением и так же без слов исчезали, заставляя его просыпаться среди ночи, с застывшим на устах крином ужаса и отчаяния...
Так выглядел внутренний мир и облик Минаса Симоняна, парторга одного из передовых колхозов района, к тому времени, к которому относится этот рассказ. Вернемся же теперь к нему, шагающему в это благоухающее утро по дну горного ущелья.
Глава 2.
Размышляю о днях древних, о летах веков минувших;
Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает:
Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить? (Псалом 76, ст. 6,7,8).
С внезапным шумом пронесшаяся над головой птичья стая заставила Минаса вздрогнуть и вспомнить ночной кошмар. Сердце вновь заныло, как бы в ожидании чего го недоброго. Что то важное и большое происходит или должно произойти, он внутренне чувствовал это, но что? что? Мысли его невольно побежали назад. Да! полгода в постели — срок немалый. Многое пришлось передумать за это время. Память удержала все, что довелось ему видеть и слышать в проблесках сознания. Он помнит, как к его брату Карпо собирались друзья-колхозники. Вполголоса, проверив двери, делились новостями, подбадривали друг друга... С надеждой говорили о войне, которая толи уже началась, толи вот-вот должна вспыхнуть, Из обрывков фраз Минас узнавал, что ряд районов страны охвачен восстанием и там действуют карательные отряды с танками и даже с самолетами, что в колхозе не хватает рабочих рук, ибо многие из молодежи ушли в горы, примкнув к восставшим и т.д. С сжатыми кулаками и слезами бессилия на глазах, говорили об очередных жертвах репрессий, называя знакомые Минасу имена.
Из всего этого он уже тогда заключил, что назревают какие то грозные события, долженствующие вызвать большие политические потрясения и изменения. „А, как знать, может быть они уже и наступили, ведь он так долго был оторван от жизни, а родные, по вполне понятным соображениям, скрывают от него истину? Неспроста, видно, два встретившиеся Минасу сегодня за околицей единоличника17, числившиеся в разряде „подкулачников“18, спешно прошли мимо, не ответив на его приветствие, и лица у них были такие необычно возбужденные и озабоченные“!..
Таково было умонастроение Минаса в тот момент, когда он, почувствовав утомление, решил присесть на полуистлевшую сухую корягу, наполовину погрязшую в прибрежном иле. Солнце приближалось к зениту и начинало припекать. Минас снял с головы лохматую шапку, сшитую из целой овчины, и с наслаждением подставил дуновению ветерка лысеющую голову, покрывшуюся крупными каплями пота. Отгоняя рукой жужжащую, назойливо лезшую в лицо, осу, он коснулся бороды и, обхватив пальцами ее шелковистые длинные пряди, вдруг подумал почему то, что он в таком виде, должно быть, сильно походит на Гамарника19, чей портретом как то видел в их районном центре - Геруси.20 Он невольно улыбнулся этой мысли и она привела его в несколько лучшее настроение. Решив, все же, тотчас же по возвращении домой сбрить бороду (а то, неровен час, увидит районное начальство, и без того, в последнее до болезни время, косовато на него поглядывающее), — Минас уселся поудобнее, смежил ресницы и, повернувшись к солнцу, с удовольствием ощутил на лице его ласку. Бегущий за спиной ручей пел свою нескончаемую песнь и под ее серебристое журчание Минаса начало охватывать еще неизведанное им чувство небывало сладкой истомы и какой то непреоборимой полудремоты. Сознание безотчетной и смутной тревоги, третий раз за сегодняшний день, робко коснулось его и ушло, уступив место тому состоянию неизреченного покоя, которого так долго жаждала его душа. В голову непрошенно полезли дорогие воспоминания далекого детства, о любимых, давно ушедших, родных... Вспомнилась молодость... служба в Сувалках, где стоял их полк, заплаканные девичьи глаза, когда он, веселый и ловкий драгун, кончив срок, уезжал домой...
Стало до боли жаль всего этого, всей прошлой жизни, такой содержательной и неописуемо красивой, жаль самого себя... Внезапно настоятельно захотелось вернуться домой, к близким, к которым, как ему почему то именно теперь казалось, он был не всегда достаточно добр и внимателен. И он уже решил было прервать прогулку, но это намерение сейчас же захлестнулось неожиданно подкравшейся волной опустошающего безразличия и какой-то обреченности. Было лень сделать хоть одно движение, отяжелевшие веки отказывались подняться, а сознание медленно заволакивалось пеленой обезволивающего безмыслия.
Не желая больше сопротивляться, Минас целиком отдался усиливающейся и сладостной дреме и стал плавно погружаться в небытие...
Глава 3.
...И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего