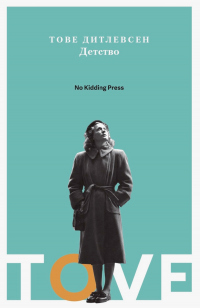едва удавалось различить, да и надобности в лице не имелось. Вниз уходила труба алого шелка, из-под которой торчали красные копытца. Только руки были свои, висели по бокам, как пришитые, и М. замялась, не понимая, что с ними делать. Потом они вышли в темный воздух на задах шапито, М. – мелкими шажками, бдительные девушки – по бокам, и стали курить, пока есть время и место.
Как-то раз, летним вечером, в прекрасном чужеземном городе, М. вышла невзначай к самому подножию башни, которой город гордился. Та сияла огнями. На траве, как в партере, сидели люди, иные даже с закусками и прохладительными напитками, и смотрели на башню, как будто она была балет, а многие даже снимали на видео то, как у нее хорошо получается стоять и светиться. Вокруг, невдалеке, было мягкое парковое нутро с дорожками и лавочками, темные подстриженные кусты, шорох гравия под ногами, но никто не хотел окунуться в дружелюбную мглу, не за этим они здесь собрались. Башня высилась до небес, вот уж кто была огромная брошка, непомерная и нечеловеческая в своем многофасеточном свечении, и вокруг все тоже искрилось, переливалось, пылало, и некуда было от такого накала скрыться. Даже там, во тьме внешней, тоже мерцало огоньками и как будто тикало. Там сидели на корточках чернокожие уличные торговцы с товаром, разложенным поверх тряпок, но то, что они продавали, были копии той же башни: одни побольше, другие поменьше, но все они мигали и искрились, как банка со светлячками, как новогодняя елка, как ночная Европа под брюхом у самолета, и у М. закружилась голова. Другие переходили от дерева к дереву, предлагая прохожим сувениры, – и башни, башни, башенки дюжинами свисали у них с поясов, тлея фосфорическим светом. И все кругом было светоносное, даже ремешки сандалий у девушки на углу горели алмазной сыпью. М. закрыла тогда глаза, как обожженная.
И чего ждать от человека, думала М. сейчас, в последние минуты перед своим выходом, – видно было, как волнуется девица с косой, наряженная в черный фрак, который был даже для нее просторен, – чего от него ждать, если он полагает, что хочет заново появиться на свет, выйти в люди, на что-то там рассчитывая, когда достаточно открыть глаза, и тебе станет ясно, что это была ошибка и что единственное, что может тебя успокоить, это полная и окончательная тьма, неподвижная и баюкающая, без всяких там снов, надежд и прочих отвлечений. И тут ударили аплодисменты, занавес разошелся и стал свет.
Это было совсем как тогда: она шла, покачиваясь на каблуках, словно внутри ошеломляющих размеров люстры, в которой были сотни свечей и тысячи глаз, и все вокруг ерзало в ожидании и било в ладоши. Слева была матовая поверхность саркофага, черного до сливовой синевы. Высокая восклицала что-то звучное и отчетливое, обращаясь к публике, и та вроде как отзывалась, подавалась к ней. Смертельный номер, это повторилось несколько раз, и вот сейча-ас!
М., как запомнила, поклонилась налево и направо (как разбойник перед казнью, сказало что-то у нее в голове) и увидела, как сползает крышка саркофага, обнажая бархатное лежбище. К иллюзионистке подбежали два служителя, один преподнес ей белые палаческие перчатки с широким раструбом, и она стала их натягивать, беспокойно поглядывая на М., которая почему-то медлила. У второго был в руках футляр, похожий на виолончельный, и он возился с замками, а когда открыл, оказалось, что там здоровенная, с острыми звериными зубами бензопила.
М. вздохнула и полезла в саркофаг.
Не то чтобы она не догадывалась, что номер, в котором она вызвалась участвовать, подразумевает перепиливание, – но подробности этого процесса как-то не обсуждались, и картинка в голове у М. была вполне невнятная, основанная на давнем случае, когда ей делали операцию на мениске, наркоз был местный, и она смотрела на невысокую занавесочку, пока невидимый хирург колдовал над больной коленкой.
Она уложила шею в вырезное отверстие и покрутила перьями на прощанье. Саркофаг был чем-то похож на хрустальный гроб со спящей красавицей из детской книжки, к ней еще явился потом королевич разбудить ее поцелуем. Ничто не казалось сейчас М. более бессмысленным, чем поцелуи, и она с оттенком недоумения вспомнила разговоры с бледноглазым и свечное тепло в животе от его присутствия; быстро же все это полиняло. В глубине, под подошвами, что-то завозилось, это была стриженая. Сапожок съехал с ноги, и М. дернула ступней, чтобы его удержать, но не справилась.
Крышка плавно поехала вперед и чавкнула, закрываясь, – и одновременно с этим взвизгнула пила, курносая иллюзионистка ходила вдоль барьера, предъявляя публике страшный свой инструмент, отвлекая зрителей, давая М. возможность сделать свою часть работы. Немного погодя она вернулась к саркофагу и с щелканьем сунула в глубокую прорезь заслонку, потом другую, обозначая место, где пройдет пила.
М. лежала под крышкой перекрученная, вспотевшая, в одном сапоге и доблестно улыбалась, как ей было велено. Дружно залопотали барабаны. Как она уже знала, это был очень качественный цирк, со световыми эффектами и тому подобным: стало совсем темно, только саркофаг светился, как голубой фонарик. Неразличимые люди дышали невдалеке, а эту, с косой, было не увидать, она ходила где-то рядом, за стеклянным краем. Пила харкнула, взвизгнула, раздалось то самое тыр-р, саркофаг заходил ходуном. Потом все кончилось, пол под ними поплыл и М. узрела, как в бесконечной дали служитель катит по кругу ту, другую половину хрустального гроба и как торчат там наружу ее красные сапожки.
21
Хлопали, и хлопали, и хлопали, словно мучительная смерть под лезвием пилы, а затем чудесное соединение воедино двух половин человеческой плоти были гвоздем программы, долгожданной вестью о воскресении. Если бы писательница М. еще была здесь, она припомнила бы, конечно, очередную сказку, на этот раз о том, как кто-то пытается оживить героя, порубанного злодеями в куски, сюжет, сказала бы она, бродячий, но интересна здесь технология. Для начала нужно собрать бедное тело заново, приладить на место все отсеченное и разбросанное по степи, заставить его снова стать единой плотью. И вот приносят две склянки с водой, одна вода мертвая, а другая живая. Сбрызнешь мертвеца мертвой водой – глянь-ка, все становится на место, тело срастается, восстанавливает, так сказать, утраченную целостность. И только тогда может подействовать вода живая, и вот незрячие глаза открываются, и отсеченные члены наполняются привычным теплом, и человек встает на ноги как новенький, жизнь жительствует, сказке конец. Но М. не было с нами, чтобы объяснить, как это устроено, и только