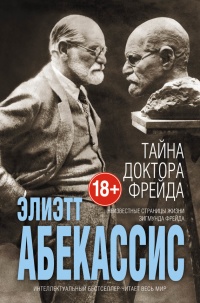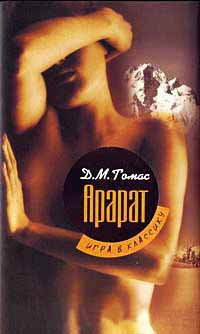— Гей-гей, хоть и не гой.
— Вот именно! В саму точку, профессор! — Ухмыляясь, она сует за пазуху большую белую руку и чешется. Я весь устремляюсь за ее пальцами. — Жаль, что я вас не встретила, когда вы приезжали. Когда это было? В девятьсот девятом?
— Да.
— В тот год я колебалась между Фрэнсис и Эзрой.{82} Наверное, я никогда не переставала, — она вытаскивает руку, чтобы сделать волнообразное движение кистью, — колебаться.
— Из того, что вы рассказывали мне о Фрэнсис, я могу заключить, что она не слишком вам подходила.
Она молчит, поджав губы, — недовольна.
— Но Брайер вам нравится, — неуверенно говорит она.
— Да, она мне нравится, нравится.
— Естественно… Вы же знаете, она назвала себя по острову.{83}
— Она мне говорила.
Сонным голосом:
— Я люблю острова, люблю острова.
Доэдипов комплекс, она мечтает найти свою мать.
Я добавляю:
— К тому же она богата.
Она прыскает:
— Да, это немало. Она щедра ко мне и моим любовникам.
— И ко мне.
— Верно… Ну, так вам понравилась Америка?
— Боюсь, что нет. Невыносимо каждое утро сталкиваться с такой прорвой паранойи, истерии, алчности, похоти, тщеславия, эгоизма…
— Бог ты мой! Да вы же там просто мучились!
— Нет, я имел в виду Юнга.{84}
Я растягиваю губы в улыбке, хотя с протезом это очень неудобно. Она заливается смехом:
— Вы в шутливом настроении, профессор!
— Благодаря вам, Кэт.
— Вот и хорошо!
— Но мне уже порядком надоело быть вашей мамочкой.
— Ах, да… Ночью в своем гостиничном номере я видела ее грудь.
Кэт страдает галлюцинациями.
— Грудь матери.
Она отодвигает воротник блузы, чтобы снова почесаться, и я вижу родинку у самого подножия восхитительного холмика.
— Вам-то, профессор, небось, не доводилось видеть плавающую перед вами грудь матери!
— Не доводилось.
— Вы скучаете по матери?
Размышляю над ее вопросом.
— Нет. Я рад, что она наконец умерла. Она бы не вынесла, если бы мне пришлось умирать на ее глазах.
— Я вам говорила, что вы уже умирали. Но если вам, как Лазарю, придется умереть снова, обещайте, что явитесь ко мне.
— Договорились. О'кей.
Голова на подушке кивает:
— Думаю, вы окажетесь в окружении смуглых египетских дев. Вы — «моя египетская змейка».
— А-а! «Антоний и Клеопатра!» «Бальзам! Блаженство! Совершенный воздух!»
Она завершает:
— «Тише. Не буди/Младенца на моей груди, который сосаньем мамку насмерть усыпит».{85}
Ее ладонь проскальзывает под блузу и накрывает грудь.
— Вы можете почувствовать это с мужчиной, Кэт.
— Знаю.
Блуза колышется над неторопливо движущимися пальцами. Издаю непроизвольный вздох. Она слышит его, истолковывает по-своему, издает смешок, сопровождаемый мягким мурлыканьем.
— Это могли бы быть вы. Вполне бы могли, — бормочет она.
В последний раз во мне просыпается желание. Знаю, ее предложение искренне. Женщина, мочившаяся на Хавлока Эллиса{86}, может позволить Фрейду погладить ее грудь из одного только великодушия и благодарности.
Я меняю местами закинутые одна на другую ноги, и она, почувствовав, что мне неудобно, легко переводит разговор на своего любящего, но холодноватого отца. Он весь не от мира сего; мать останавливает болтовню за обеденным столом одной фразой: «Отец хочет что-то сказать». Сейчас Кэт может говорить о нем куда спокойнее. Когда ее поток иссякает, она спрашивает:
— Как бы вы определили любовь?
— Это выше моих сил, Кэт.
— А она здесь, вы знаете? Она здесь.
Она права; любовь прокралась в комнату и стала еще одним таинственным экспонатом моей странной коллекции древностей. Она сильнее, чем любой из них. Мы забыли о времени, молчим, как любовники на тихом летнем озере, — целиком поглощены друг другом, весла замерли, плещется вода.
Вдруг почти неслышный, пульсирующий звук; он нарастает, хотя и не приближается, и вполне узнаваем — это непрекращающееся, наполненное ненавистью гудение толпы.
Теперь это стало слишком привычным.
— В конце концов, он победит, — бормочет Кэт. — Я в этом уверена.
Ее реплика удивляет меня. Все, что происходило в политике после Троянской войны, ее абсолютно не интересует.
— Кто — Дольфус{87}? Возможно. Я даже в некотором роде надеюсь на это. Все лучше, чем анархия… Или вы имели в виду Гитлера?
Она слегка встряхивает стриженой головой:
— Я имела в виду Бессмертный Эрос.
Часть вторая
глава 16
За окном сгущаются сумерки, и звуки в уютном английском саду смолкают. В птичьих трелях слышится усталость. Анна сидит за моим письменным столом и пишет при свете настольной лампы, хотя еще не до такой степени темно, чтобы опустить тяжелые черные шторы, сшитые Минной.
Анна в черном — на ней черное платье, черные чулки, черные туфли без каблука. Лишь подаренные мною жемчужные серьги немного оживляют ее наряд. Она заканчивает письмо, промокает написанное, запечатывает конверт, и вид у нее такой печальный, что я бормочу: «Мое sorgenkind![10]»
Она поднимает, голову, смотрит на меня — удивленный, даже ошеломленный взгляд. Ее темные печальные глаза широко открыты. «Папа!» — она отбрасывает в сторону мой стул и кидается ко мне. Падает на колени и проводит по моему лбу рукой, в ее улыбке скорбь и любовь.
— Лежи, лежи, — шепчет она. — Все в порядке. Я с тобой, мой дорогой. Я никуда не ухожу. Лежи, спи…
— Почему ты в трауре, Анна? — спрашиваю я. — Твой старый папа еще не умер! Он еще не превратился ни в прах, ни в Шарко.
Слабая улыбка становится чуть более уверенной.
— А я уж и не надеялась больше услышать твой дорогой голос. — Закусив губу, она с волнением ищет мой взгляд. — Тебе больно?