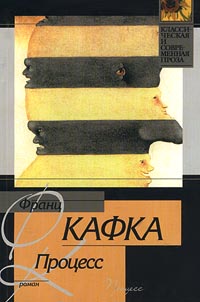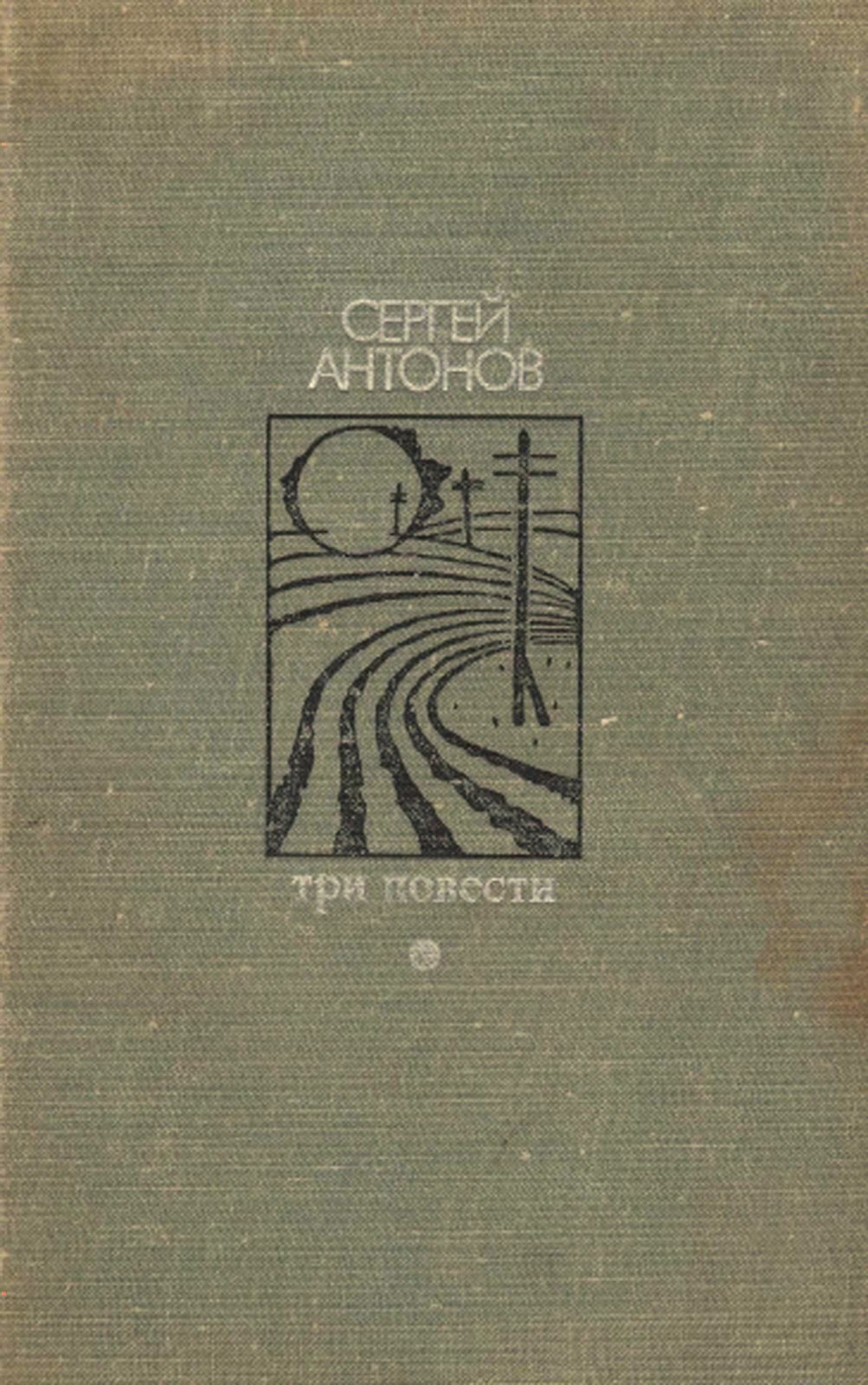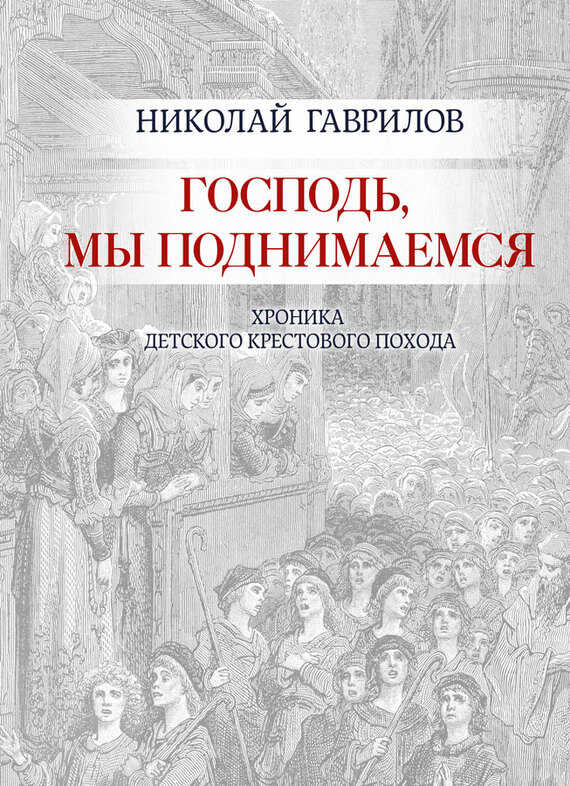страшное отвращение. Что там институт! По сравнению с происшедшим прошлой ночью это была вещь простая и легко достижимая. А желание обладать женщиной, о которой он вчера днём не смел и подумать, ожигало его палящим зноем.
«Развратница, проститутка», — думал он с клокочущей злобой.
Он готов был молить её на коленях, чтобы она хоть раз улыбнулась ему, чтобы сделала хоть маленький знак. Но, встречаясь с ним в кухне, она была такою же, как вчера, позавчера, две недели тому назад, и ни малейшим движением не выдавала своего ночного визита. Это казалось ему бездной лукавства, глубиной испорченности распущенной самки. Ведь она приходила? Определённо. К чему эта фальшь? Придёт или нет? Юноша прекрасно понимал, что обидел её своим поведением, что нужно что-то сказать или сделать, но что и как — он не знал, не отваживался, боясь сам себе повредить и неудачным поступком разрушить всё вконец, вместо того чтобы исправить.
Тихо, совсем незаметно прошёл он в кухню, где Тамара Васильевна возилась с обедом. Она стояла спиной к двери, и юноша вошёл незамеченным. Полный сознания своего унижения и вместе с тем охваченный тоской, он с какой-то нищенской жадностью пожирал глазами линии её спины и ног, то с мольбой, то с нестерпимой страстью. И когда она обернулась и увидела его, он заметил на её лице страдание и враждебность, затаившиеся под видом непоколебимого спокойствия.
— Приходите сегодня, приходите! — прошептал он тихо-тихо, хоть никто из посторонних не мог его услышать, так как утром в доме было пусто.
Ни один мускул не шевельнулся на её лице. Она отвернулась, а Степан выскочил из комнаты, ожесточённо хлопнув дверью. Он не пришёл домой обедать, желая подчеркнуть своё отчаяние, вернулся поздно вечером, проблуждав целый день у Днепра, и сразу улёгся спать, снова намекая на своё ожидание. Часы тянулись; потолку и всему дому смирного торговца угрожало разрушение от взрывов его нетерпенья, и когда она наконец пришла, юноша встретил её со всем пылом юношеской страсти и громадного запаса сил, который принёс с собою в город.
XI.
Кончалось лето. Рассветы стали облачными, а в полдень всплывало солнце, наполняя воздух весенними миражами и задерживая на время падение листьев. Но ночью их срывали и разносили по улицам: ветры, задавая дворникам работу. По этим жёлтым, осенним покрывалам город вступал в полосу своего расцвета, просыпаясь после летней спячки. Лихорадочно начинались культурно-просветительные, клубные и театральные сезоны, оживали учёные и полуучёные общества, их члены возвращались из отпусков и домов отдыха; библиотеки и книжные магазины, замершие на время летней истомы ума, переполнялись покупателями и посетителями, открывались выставки и читались лекции. Начиналась настоящая жизнь города, расцвет его творчества, замкнутого в каменных стенах, но безграничного по творческому размаху.
Степан с увлечением бросился в этот водоворот. Собственно говоря, он мало потерял, пропустив первые лекции в институте. Только теперь съехались все профессора, и расписание превратилось в действительное, особенно в работе кружков и кабинетов. Он вошёл в аудиторию на готовое, имея возможность сразу стать на рельсы и развить ту быстроту, которую предусматривают учебные планы. Записавшись на практические работы по статистике и историческому материализму, аккуратно посещая лекции, он так погрузился в науку, что мало сближался с товарищами. Они интересовали его только как компаньоны по работе. Через две-три недели он стал для них справочником институтских событий и перемен. На его тетради с записью лекций возник такой спрос, что их решено было размножить на машинке. Особенно в области теории вероятности и
высшей математики он сразу стал общепризнанным спецом. В окаменелых формулах теорем он схватывал их суть, которая становится верным путеводителем в недрах их внешней сложности.
Вечерами, торопливо сбегав домой пообедать, Степан сидел в статистическом кабинете, вычисляя бесконечные ряды урожая и смертности, чтоб определить коэффициент корреляции, и потом уходил в библиотеку, готовясь к докладу о греческом атомизме. Дома каждую свободную минуту отдавал на изучение английского и французского языков. Незнание языков было наибольшим пробелом в его образовании и заполнение его стало ударным лозунгом Степана. В нём проснулась упорство и усидчивость, которые только усиливались работой. Дни проходили полные, насыщенные содержанием, не оставляя никаких сомнений и колебаний. Юноша свободно разворачивал свои силы, горел ясна, ибо был таков: схватив вёсла на гонках, мог гнать лодку, не отдыхая, до тех пор, пока не выворачивал уключин. Те странные отношения, которые завязались между ним и хозяйкой, нисколько не мешали ему. Днём он как-то забывал о них, так как сама Тамара Васильевна своим поведением решительно определила грани их дневных отношений. Никаких намёков. Никаких вольностей. Только дела, только официально! И Степан тоже не собирался нарушать установленный ею порядок. В конце концов ему нравилась такая сдержанность хозяйки. Она словно боялась света, который разъедает тайну, как кислота, и их встречи сохраняли прелесть неожиданности. Это была своеобразная, смешная, но приятная романтика кухни, юноши и преступной матери, полусентиментальный домашний роман, освящённый неизменной ночью и тиканьем дешёвых часов на стене, роман с неожиданной завязкой, страстным содержанием и скучным концом. Тем не менее иногда по какой-нибудь мелочи, по движению или слову он замечал в Тамаре Васильевне стыдливость и сдержанность, которая возбуждала в нём уважение и подрывала его первую мысль о ней, как о развратнице. Тогда испуг и беспокойство, овладевали им, и эта связь, которую он так просто объяснял, начинала казаться ему непонятной, Он спрашивал, притворяясь наивным:
— Почему, отчего, из-за чего, по какой причине?
— Потому, что ты моя маленькая любовь, — говорила она.
А он не смел говорить ей «ты» и называл Мусинькой, как она сама и посоветовала.
Изредка за книгой и среди работы ему хотелось рассмеяться от удивления и приятного удовлетворения. Странные вещи бывают на свете! Появился он в семье торговца неизвестно откуда, приютился, втёрся и вот до чего дошёл, и всё это случилось само собой, без малейшего усилия! Иногда Степан думал о Гнедом и Максиме, из которых с первым почти никогда не встречался, а со вторым как будто дружил, хотя виделся тоже не каждый день. Не догадываются ли они? Нет, конечно, нет. Ибо ничто не выдавало перемен во внутренней, замкнутой, мрачной жизни этого странного семейства. А он, несомненно, что-нибудь заметил бы, уловил бы какой-нибудь взгляд или намёк. Совесть подсказывала ему, что всё откроется, скоро откроется и будет скверно. От таких неприятных возможностей по спине Степана проходил неприятный холод. Но голоса предосторожности быстро глохли в водовороте его