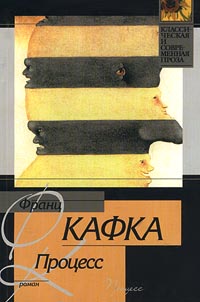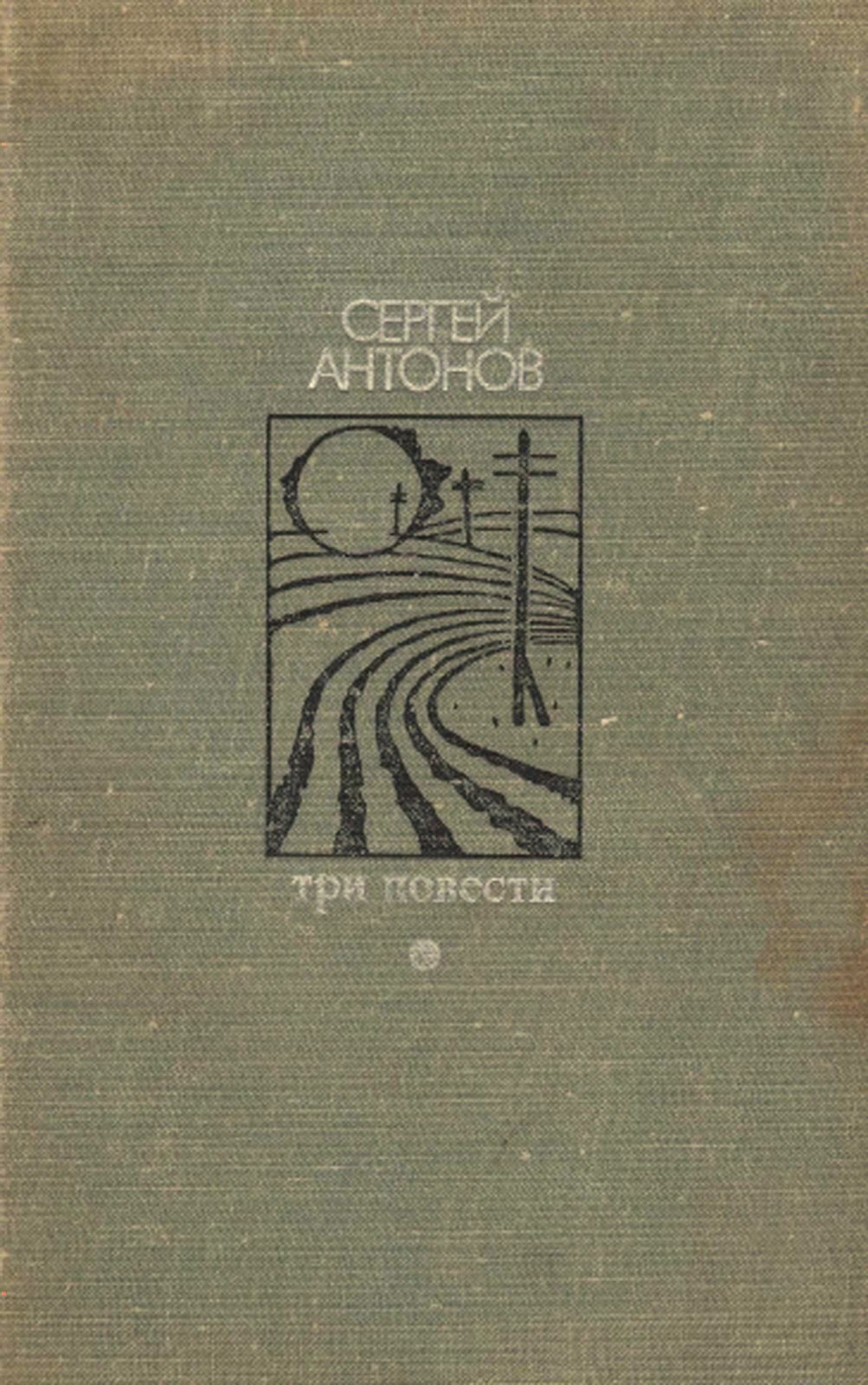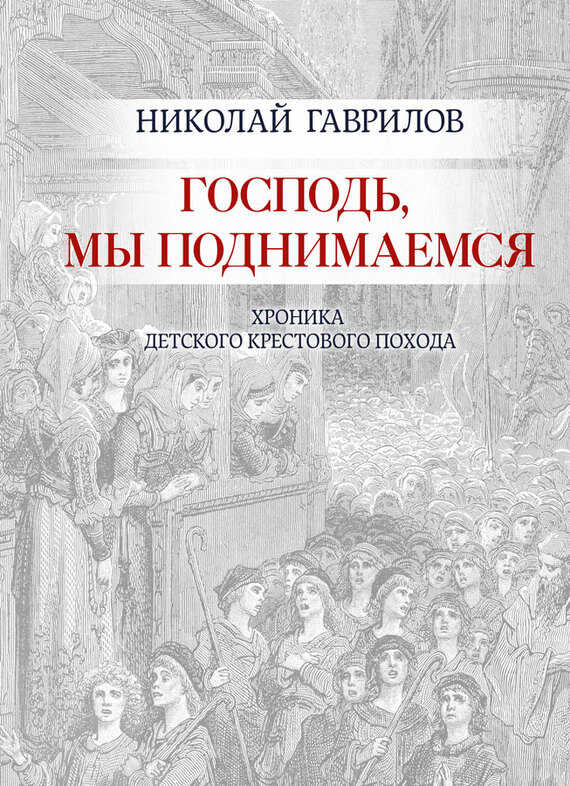футляр.
— Вы хотели бы подарить такое своей матери, правда? — продолжал Максим. — В прочем, я забыл, что вы сирота. Мы приняли вас только потому, что вы сирота. У нас не любят чужих, мы привыкли быть одни. И, знаете, не приняли бы вас ни за что. Но когда я прочёл в письме вашего дяди, что у вас нет родителей, я сразу высказался за то, чтобы вас приютить. Тому, у кого нет матери, надо помогать.
— Спасибо, — пробормотал молодой человек, чувствуя от этого раскрытого благодеяния теплоту, стыд и неприятную боль.
— Ну, вот мне жаль, что я сказал вам об этом. Я много думал о вас. И придумал поручить вам наше хозяйство. Это всё же лучше, нежели слоняться по общежитиям. И маме, кстати, помощь. Только вы не благодарите, ради бога, забудьте, забудьте об этом.
Потом хозяин показал ему несколько сокровищ из своей библиотеки: оригинальные издания петровской эпохи, украинские издания с гравюрами первой половины девятнадцатого столетия и громадную коллекцию почтовых марок в пяти толстых альбомах — результат неутомимого собирания с детских лет. Он рассказал Степану о всемирном обществе филателистов, членом которого он был, и о том, что теперь ведёт с членами общества, живущими во всех углах земного шара, интенсивную переписку, снабжая их драгоценными для них марками времён революции.
— Знаете, — сказал он, — я имел бы приют везде, где хотите, — в Австралии, в Африке, на Малайских островах, лишь бы только поехал. Устав нашего общества предлагает нам давать приют членам общества. Но я никогда не выезжал из Киева, — прибавил он со вздохом.
Степану о всемирном обществе филателистов, членом тистике, экономической географии и коммерческой арифметике, и всё это сложил в углу, впредь до употребления. Как всегда, ознакомясь с людьми, он сразу замечал неизбежные в каждом странности и терял часть уважения к ним. И любезного Максима он также определил как чудака, находя в нём что-то родственное с сумасшедшим учителем, с которым он познакомился у Левко.
«Ну и люди, — думал он, — и чего им нужно? Жить бы просто, а они все с выкрутасами».
Оп думал так, несмотря на то, что сам искал в жизни чего-то особенного, так как жить просто человеку не по силе.
Но больше всего поразило Степана напоминание об его сиротстве. Действительно, мать у него умерла; когда ему было два года, и никаких воспоминаний о ней в его памяти не сохранилось. Поэтому его детская тоска; боль обид и несправедливостей превращалась в мечту, растекалась по степям и рощам, уносилась в недосягаемые дали. Потом ему даже перестало казаться, что его мать когда-то существовала так, как существуют другие рождающие женщины. И удивительная нежность, звеневшая в сыновнем голосе Максима, возбудила в душе Степана гнетущую тоску.
Утром книги, подаренные ему Максимом, показались Степану живым укором, он решил, что довольно дурака валять, и, взяв бумагу и карандаш, отправился в институт, но вид улиц и людей, гулкий звон в церквях напомнили ему о том, что сегодня воскресенье. Он совсем потерял счёт дням, и это его страшно рассмешило.
«Вот увалень, — подумал он о себе, — завтра же начну заниматься».
Вечером Степан заставил себя внимательно прочесть введение в статистику — науку удивительную, которая безошибочно исчисляет, сколько шансов имеет каждый попасть под трамвай, заболеть холерой или стать гением, но до этих поучительных отделов юноша ещё не дошёл, и когда деревянные часы — украшение его кабинета — показали десять, он решил, что пора лечь спать и разрешить таким образом все вопросы прошедшего дня.
Он заснул и проснулся от тихого шороха у кровати. Раскрыв глаза, увидел чуть серевшую в сумерках фигуру, Степан вскочил и глухо спросил:
- Кто там?
Преступник? Привидение? Сон?
Но фигура молча надвигалась, и юноша сразу догадался — это хозяйка. Что случилось? Пожар? Неожиданная смерть? Он не успел ничего спросить, как почувствовал прикосновение горячей руки к лицу, шее, к груди. Потом двух рук. Прерывающееся, словно сдержанное дыхание приближалось к нему, наклонялось, остановилось и легло ему на губы сухой жгучей печатью. Руки женщины обвили его стан, и к груди прижалось тёплое трепетное тело. Охваченный бессознательным страхом, Степан отодвинулся и прижался к стене.
— Что это вы? Что это вы? - бормотал он, захлёбываясь. Всё тело одеревенело от напряжения, страх свёл руки. Дышал он шумно и тяжело, хватая губами холодный тяжёлый воздух.
Она отшатнулась и тихо пошла прочь. Степан, как сквозь сон, услышал лёгкий скрип дверей. Жизнь понемногу возвращалась к нему, сердце успокаивалось, он пошевелился и несмело вытянулся на кровати. Ноги ещё дрожали и струи крови звенели в ушах.
«Что это? Как же так?» — думал юноша, разводя руками.
По мере того как к нему возвращалось сознание, у него на устах возрождался поцелуй, который он прервал, прикосновение груди и сладостное объятие голых рук. Голых! Как поздно он это понял! Ведь всё её тело, раздражённое, податливое, было отдалено от него лишь тканью сорочки. И он оттолкнул его, как трус, вместо того, чтобы погрузиться в него, вместо того, чтобы познать в его глубинах таинственную, изнуряющую теплоту! Что остановило его? Грех? Чувство вины перед кем-нибудь? Угрызение совести? Весь этот цепкий хлам, эти досадные, разбросанные по дорогам колючки, или, вернее, мальчишеский испуг — глупые предрассудки.
А кровь уже зажигалась, наполняла жилы; молодое сердце забилось мощными ударами. Охваченный палящей жаждой наслаждения, он осторожно поднялся и дрожа коснулся ногой холодного пола. На цыпочках подошёл к двери, которая вела в комнаты Гнедых, и тихонько пробовал её открыть, но дверь поддалась лишь немного, запертая изнутри на крючок. Степан поднял руку, хотел постучать, но рука бессильно упала. В конце концов он сам виноват!
Комната душила его. Выйдя в белье на крыльцо, он сел и упёрся локтями в колени. Холодный воздух не успокаивал его. Страх и напряжение оставили в его сердце немую боль. Раскаяние о несовершённом грехе - именно о том, что он не совершил его, — мучило и грызло Степана, он называл себя дураком, остолопом и ничтожеством. И не только потому, что неудовлетворённое тело его преисполнилось горечью, но и потому, что обладание этой пышной отцветающей женщиной могло укрепить его дух и волю.
Утром Степан, нервный и невыспавшийся, мрачно слонялся по двору и томясь курил папиросу за папиросой, исчерпывая запасы своей махорки. День был будний, и институт был открыт, но одно воспоминание о нём вызывало в юноше