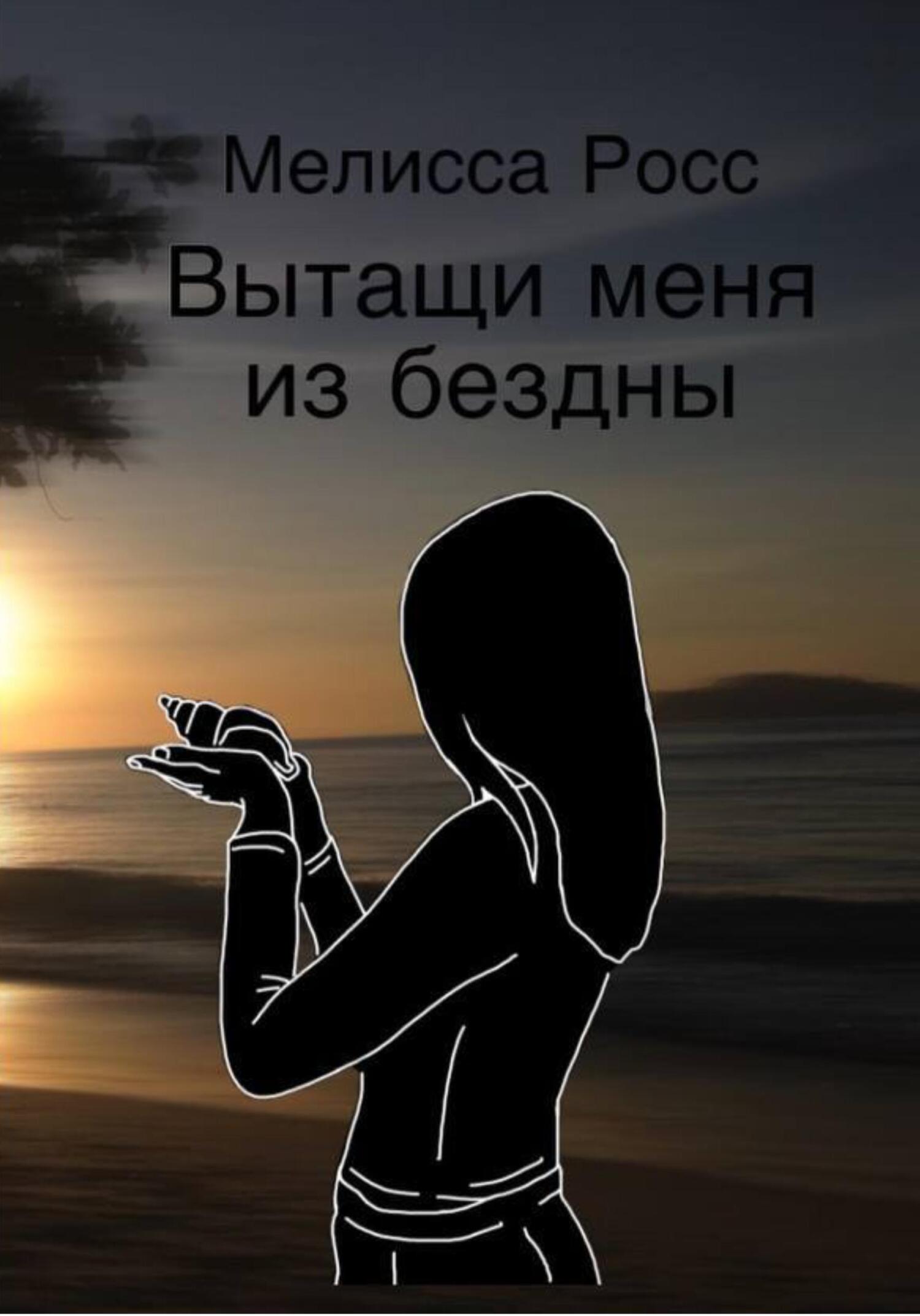ли вы найти для меня щенка, славного, доброго кутенка? Я так одинок на маяке, — добавил я через несколько мгновений, совершенно изменившимся голосом.
— Ах, чтобы вам прийти несколько раньше! Как раз вчера на участке Жанны Баруа убили одного совсем маленького, мать не могла его больше кормить.
„Ну, конечно! Слишком поздно для щенка.“
— Вам трудно живется? — спросила она, видя, что я замолчал.
— Да... я никогда не бываю особенно весел. Жизнь моя не больно-то хороша... Вы не можете себе представить... вы... вы еще ребенок...
— Я не ребенок, потому что вы зовете меня: барышня.
Я качал головой, стараясь улыбнуться. Она положила мне на плечо свою маленькую темную лапку, теребя нервными пальцами материю моей блузы, так же, как только что перебирала свою косынку.
— Вы придете в воскресенье! Мы отправимся с вами гулять по берегу моря и я вас утешу, если вы будете грустным.
— Ах! Нет, — вскричал я, — только не к морю... не хочу больше моря... вода на меня наводит ужас... от моря пахнет утопленницей!
— Ну, так чтоже! Почему это так вас волнует?
— При одной мысли о море я чувствую себя больным, маленькая Мари.
— Что за ерунда! А вы думайте обо мне... я вам дам сирени, вы ее возьмете с собой.
„Напитки и... сирень на вынос!“ Недурная была бы вывеска над их дверью.
Резким движением я схватил ее за руки:
— Если бы ты имела хотя какое-нибудь представление об этой болезни-любви, ты бы не была больше такой веселой. Любовь толкает на ужасные вещи.
— Да! Не надо их делать, вот и все. Я очень строптива.
— Мари?
— Ну что еще?
— Смотри на меня.
— Я смотрю на вас, вот...
Мы оба молчали, держа друг друга за руки. Она пристально смотрела мне в глаза несколько вызывающим взглядом мальчишки, она принимала первый любовный поединок, так как с тех пор, как согрешила ее подруга, малютка Трегенек, на два года старше ее, она сгорала от желания оказать кому-нибудь сопротивление. Оригинальная идея свободного или порочного ребенка.
— Ты хорошенькая, Мари.
— Не правда, — ответила она пренебрежительно.
Ей было совершенно все равно.
— Поцелуй меня.
— Нет!
— Да!
— Я не умею.
— Хочешь я тебя научу?
— Я тебя не знаю.
— Мы познакомимся. Это даже самый лучший способ.
— А... крест? Настоящий золотой крест, вы забыли?
— Хочешь, я дам тебе на что купить его завтра в Бресте?
— Это было бы вернее...
— Ах, ты, маленькая...
К счастию слово не сорвалось.
Я видел: ее глаза блестели в сумерках, как у детей, готовых расплакаться.
И они фосфорически искрились, точно кошачьи.
„Как кошки!“ — говорила маленькая мальтийская чернокожая из Марселя.
Она может быть поняла и прибавила со врожденным кокетством:
— Я вам дам сирени с куста... и подожду две недели... не больше двух недель... а не то я вас забуду.
— Я если я никогда не вернусь?
— Да я в этом не сомневаюсь, убирайтесь!
Это уже — объявление войны. Она вооружилась способом борьбы всех самок: защищаться всеми возможными средствами и соглашаться только на... задатки. Эта игра меня захватила.
Я хотел обнять ее насильно.
Она больно ударила меня кулаком в грудь и, вырвавшись резким скачком, — о, юбки ей ни сколько не мешали — бросилась в дом.
Я не мог больше отступать и побежал за ней. У меня тоже была своя система... Это — быть как можно почтительнее и вежливее.
Обед был очень хороший.
Ко мне вернулся аппетит, и я ел с большим удовольствием. Картофель на сале оказался прекрасно подрумяненным, а творог, очень свежий, еще сохранил аромат сливок.
Тетка спокойно суетилась, двигаясь от стола и к столу, полная внимания, довольная, уже ослепленная, бедняжка, грядущим, сверкающим солнцем маленькой желтой монетки.
Девчонка фыркала, как только старуха поворачивалась спиной, и смотрела мне в лицо, глаза в глаза, так откровенно, что мне делалось страшно. Она напоминала маленького зверька, пришедшего в отчаяние от того, что кто-то невидимый кусал и щипал его.
Я-то, конечно, не щипался, а сидел чинно рядом, внимательно следя за тем, чтобы ее стакан не оставался пустым.
Мне, по правде сказать, очень хотелось переночевать в этом доме. Но старуха объяснила, что у них тесно, и что корова, как раз помещена в той комнате, которую прежде можно было сдавать.
— С другой стороны предместья, по направлению к городу, вы увидите целый ряд постоялых дворов, и там всегда найдется кому разбудить вас на рассвете, на пароход.
Я расплатился: три франка с половиной, и робко попросил барышню проводить меня немного, раз она так любит гулять.
— Ладно, — сказала тетка, — она рада быть на улице весь Божий день. Сегодня дождик... а то вы бы только ее и видели.
Мари надела новый шелковый фартук и тюлевую косыночку. На голову она ничего не покрыла, а только повязала бархоткой небольшие, лежащие плоскими прядями, волосы.
Мы пошли по дороге не говоря ни слова, потом я взял ее руку и просунул под свою. Она была совсем маленькая и слегка дрожала. Чувствовать около себя первого влюбленного в тебя, это всегда торжественный момент.
— Теперь, Мари, вы боитесь меня? Клянусь, я не сделаю ничего, что могло бы вам быть неприятно.
— Вы не будете стараться меня поцеловать?
— Нет, я удовольствуюсь веточкой сирени, которую... вы мне забыли дать!
— Ах! да, сирень! Однако, какая я невежа... я бы должна...
— Это не имеет никакого значения, раз мы с вами не пришли ни к какому соглашению.
Мы двигались вдоль большой канавы, которая ночью казалась очень темной рядом с бледнеющей дорогой.
— Послушайте? Там есть кто-нибудь?—Спросила она глухим голосом, прижимаясь ко мне.
— Где? Я не вижу ни души до самого города.
— Дальше я не пойду с вами, господин Жан Мало, очень темно.
— Тогда прощайте, госпожа Марии
— Так до скорого?
— Чего ради? Или совсем горячо, или совсем холодно! Вы совершенно свободны и я тоже. Лучше так и останемся... а то, как бы не сделать кого-нибудь несчастным.
Резким движением, совершенно таким, каким она отскочила назад, когда мы были под навесом, Мари бросилась мне на шею, вытянувшись на цыпочки, чтобы достать моего лица.
Губы наши соединились.
Ох! Уверяю вас, эта девушка умела целоваться с самого рождения. Она отдавалась всем