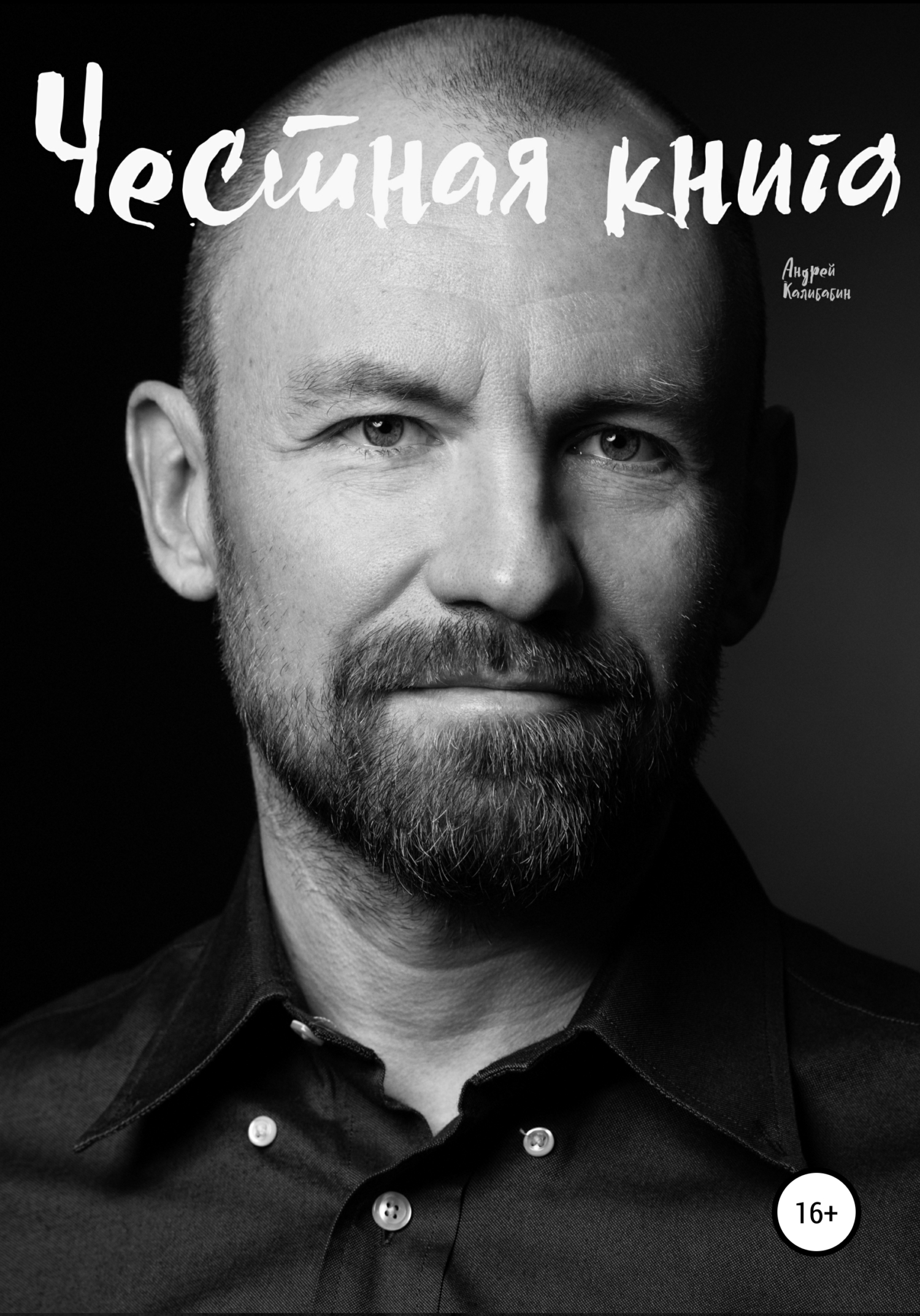Одно еще ненавижу я у нас, что очень часто мы правду не говорим о себе...
Сидор положил ладонь на газету и поднял голову.
— ...Самим себе не говорим правды,— продолжал Клим,— и сами не знаем потом, что у нас под боком творится.
Сидор улыбнулся.
— Ты о чем это, отец?
— А про то, что какого черта крутить перед самим собою? У нас же, кажется, этого не полагается.
— А-а!.. очередное выступление против советской власти. Ну, ну, поворчи, отец,— шутя, проговорил Сидор,— поворчи. Что это сегодня с тобой приключилось?
— Ты меня, братец, не пугай, будто я против советской власти, я ее, может, больше тебя люблю, но вот спрашиваю тебя, почему газеты не пишут правды о том, что у нас происходит?
— Где? Что происходит?
— Где? Что? Вот и сам ты ни черта лысого не знаешь. А еще, как говорят, секретарь... Ну, зачем скрывать? Скрывают, а из-за этого сплетни разные ползут, болтают вокруг разное, и сам черт не разберется во всем этом... Тут ведь такое дело, что его потихоньку, тайком не сделаешь, да и незачем тайком делать...
— Да ты о чем говоришь? — уже серьезно спросил Сидор.— Ты толком скажи.
— Да о колхозах... читаешь газету, так там только и пишут, что организовали: там организовали, тут организовали, там столько процентов, а как организовали, об этом, небось, не пишут. Как читаешь, так все славно и гладко у них там, а на рынке мужики черт знает что говорят...
— Не всему надо верить, что говорят, да еще на рынке...
Клима эти слова немного смутили. Он сам всегда не любил новостей, которые приносила жена с базара, ругал ее за них, и теперь ему стало неловко, что сам он базарными слухами мотивировал свое настроение, и он становился мягче, но, не сдаваясь, все еще продолжал:
— И я всему не верю. Но если говорят, значит, хоть толика правды есть... Добровольные колхозы у нас? Добровольные, так? — спросил оп. И, не дав Сидору возможности ответить, говорил опять и горячился: — Добровольные работники приезжают в деревню, и, черт знает, что творят там, лишь бы вовлечь мужика. Мужик идет, конечно, пойдет, как же не пойти, если запугают. Но мужик хитер. Он слушает тебя, молчит, а свое думает... Ты ему свое, а он свое... Он свое думает, что, если гонишь, значит, как говорят, что-то не так... Как же он поверит, что это для его пользы, если его запугали. Он пойдет, как говорят, запишется, а работать не будет, будет волком в лес смотреть, на хутор. А если работать не будет, какая ж от этого польза колхозу?.. А ты погоди, знаю я, как там объясняют. Если бы объяснили да убедили, не то было бы, а то что-то объяснения того и не видать, а мужик ногами в колхоз будто идет, а руками на рынок тащит корову да за двенадцать рублей отдает коняку на шкуру... А пахать весной чем будет? Если бы объясняли, не потащил бы... курица двенадцать рублей и конь двенадцать. На шкуру, бери только... Так если уже на то пошло, почему бы государству не скупить коней, чтобы не дать их уничтожить, потому что спекулянт, как говорят, берет и на шкуру уничтожает.
Сидор поднялся из-за стола, подошел к Климу, чтобы успокоить его.
— А ты, отец, спокойнее, не волнуйся,— сказал он,— о таких искривлениях и в газете писали, за это не хвалят...
— Искривления... Ты меня не учи, я понимаю, что партия не так указывает делать, но почему газета не учит, как надо делать, а только о процентах пишет...
— Ей-богу, пошлем тебя, отец, на коллективизацию.
— А думаешь, не поехал бы? И еще как бы сделал. Лучше, чем многие другие... На такое дело, раз революция полная в хозяйстве, как говорят, надо посылать людей с головою, кто и политику, и хозяйство хорошо понимает, а не тех, кто языком лишь исправно чешет. А вот они и делают так, что потом и черт не разберет, кто виноват.
— Да ты погоди...— Сидор махнул рукой.
— Чего мне ждать? Пускай работают лучше, показать надо, а не так... Не все испоганили? Да если бы все, разогнать надо было бы таких работничков... Не всюду... Но и немало.
Сидор опять отошел к столу и, сидя, спокойно слушал и по слову вставлял в речь Клима, охлаждал ее. Клим и сам уже чувствовал, что успокаивается, и, чтобы не сдаваться сразу, легко, он нарочито зло говорил, стоя над самоваром:
— Все хозяйство к черту уничтожить так можно. Не скажут толком мужику, что к чему, болтают, а тот думает, что отнимают, и тащит на рынок, а потом у него ничего не будет, ни в колхозе... за двенадцать рублей коняку отдает, а то и просто бьет, калечит, лишь бы не сдать в колхоз... Нахозяйничаешь с такими... а если бы объяснили как следует, разве он поступал бы так? Этим бы и шептунов разных били...
Сидор молчал и потихоньку улыбался, ожидая, когда Клим выговорится и замолчит. Он слишком хорошо знал характер Клима. Начни очень уж хвалить что-нибудь, как Клим сердито начнет хаять то же самое, придираться, искать самую маленькую прицепку, чтобы доказать, что хваленое не заслуживает похвальбы. А начни сам охаивать что-нибудь, Клим так же ожесточенно будет защищать. Чувствуя себя полным хозяином жизни, строящейся вокруг него, Клим считал себя вправе ругать то, что по его мнению было не совсем хорошим, но, ругая сам, в то же время не позволял хаять жизнь кому-нибудь другому. Таков уже характер. И Сидор, молча улыбаясь, любовался Климом, ждал, когда он замолчит.
Самовар зашипел, забулькал, казалось, и он потихоньку довольно смеется над Климом. Вырвался из самовара и пошел сизыми столбиками пар. Клим быстренько снял с самовара жестяную приставную трубу, и самовар немного присмирел, пар из него пошел медленнее.
Из крана в большой белый размалеванный чайник ручьем бежал кипяток. Клим на корточках стоял у самовара и, держась за край рукой, заглядывал в чайник. Там суетились — то тонули, то всплывали наверх — темно-бурые чайные палочки.
Сидор свернул газету, положил ее па край стола и, улыбаясь, спросил:
— Чай, значит, готов? А где же хозяйка?
— В кооперации где-то, а чай мы без нее пить будем, она потом попьет,— ответил Клим.
— А я таки, признаться, с охотой попью, промерз немного