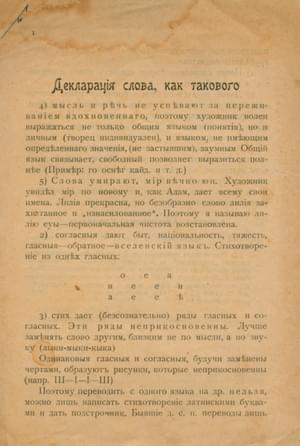фразы, рекламное название и вот уже новая книга Крученых, подлинная рукопись, рисунок, нестрочье, где буквы ле-та-ют, присаживаясь на квадрат, треугольник или суковатую поперечину…
Такие книги не исправляются автором, не переписываются: они точный след крови, произвольно упавшей из наклоненного к бумаге пера; они пахнут фосфором, как свежие локоны мозга. Вот «Город в осаде», где выпускаются на улицу «свирепые вещи» вместе с воззванием сумасшедших, которые диктуют всему «наизнанку законы»; «Восемь восторгов» – приходно-расходная тетрадь радостей футуриста; «Нестрочье», заявляющее о «совершенной откровенности» автора, когда он пишет на родном заумном языке. «Ф/нагт», «Шбыц», «ра/ва/ха»… этим книгам нет конца и не будет:
все хорошо, что
хорошо начинается
и не имеет конца.
Этими словами заканчивается драма-опера Крученых «Победа над Солнцем». Здесь он оказывается бешеным драматургом. Его драму нельзя читать: столько туда вколочено пленительных нелепостей, провальных событий, шарахающих перспектив, от которых станет мутно в голове любого режиссера. «Победу над Солнцем» надо видеть во сне или, по крайней мере, на сцене. Это не «Ошибка смерти» Хлебникова, где все сидят в одной комнате, разговаривают и входит какой-то неизвестный и еще что-то разговаривают и что-то читают… Эту пьесу можно безболезненно мус<о>лить в кабинете.
Здесь сказывается глубокое различие темпераментов: домомнитствующий, комнатный схоластик Хлебников и летящий на Америке Крученых.
Домашняя мистика не интересует Крученых. В своих критических произведениях он любит все сводить к ярой практике творческого ремесла.
То, что бесцельно путает, должно быть выброшено: чёрта, оседлавшего русскую литературу, он превращает просто в дворника, который не хуже других:
И бес стал пятиться невольно
Заметя что глумлюсь
Щипнул себя, щипая больно
Тебе я предаюсь
(«Полуживой»).
В той же книге («Черт и речетворцы») вместе с победой над чертом заявлена победа над «украшением ада» – сладострастием. Величие этого последнего идола колеблется:
Тебе навеки я отдадена
вияся ведьма изрекла
И ветр и зверь и дева-гадина
Касались моего чела
(«Полуживой»).
Победа над великой Вавилонской Блудницей! Тут впервые наступил момент, когда все разрушено, вплоть до апокалиптических ужасов и начинается «Мирсконца».
Эта мысль – «мирсконца» – записанная как одно слово, фундамент футуризма. Новый мир уже начался, вытеснив собою все нежные воспоминания; вот почему футуристы о таинственной, строгой и нежной луне – Саломее говорят, что она сдохла.
Мир не умер, не почил, а именно подох, потому что от него теперь ничего не осталось, кроме «блевотины костей» или «душистого рвотного». Те, что с верою ждут еще «конца света», не заметили минуты, когда мир погибал! Для Крученых «света преставление» факт давно совершившийся и даже малоинтересный!.. Казалось бы что «мистического» в ярких клееных бумажках, которые делает Крученых вместо картин: не то ли самое нравится детям, и дети, придя на выставку картин футуристов, совсем не боятся бумажек Крученых.
Почему же родители их полны ужаса под маской негодования и презрения?!
Не потому ли, что тут они не узнают себя, природы, всего, что существует с начала мира и должно существовать до «конца света»! Должно существовать, время еще не пришло, а между тем в бумажках Крученых уже ничего нет! Что это? Издевательство? – два черных прямоугольника, из которых один бархатно-матовый квадрат, а другой лакированно-блестящая полоса?!
А вдруг в следующий раз он возьмет и наклеит только один блестящий или матовый квадрат?! что тогда?! Тогда «конец света»! И с детства привычный для человечества страх ночи и светопреставления подымается в душе взрослого человека, потому что не заметил он, как мир кончился и начался с конца… без «трубного гласа», мир заумный, заойный… Для тех, кто этого не заметил, мир продолжает существовать, но Крученых давно заявил в «Победе над Солнцем»:
знайте, что земля не вертится.
Понимающие слово-мирсконца только как символ творческого обновления или чего-нибудь еще – заскакивают вперед, но неудачно, потому что символическое понимание вещей не дает и отдаленного постижения живой и плотской мысли – мирсконца.
Мирсконца пока еще не символ, а только факт. Только петуший голос Алексея Крученых. Только он, Крученых, писавший вместе со всеми русскими поэтами-футуристами и объединивший в своих книгах всех русских футуристов художников, которые любовно украшали его «голую чушь» собственной «чушью», может теперь, принеся догмат и войну, прокричать:
И так я живу
Полый
Протух
Петух мудрости
(«Мятеж на снегу»).
Мне смерти нет и нет убоя в лицо плюют карболкою напрасно как будто пухну от ядопоя а пистолета выстрел застенчиво гаснет. («Будалый»)
Но все эти крайние нелепости, этот театр безумия является только подходом к иному, еще большему вздору – заумному языку. Весь футуризм был бы ненужной затеей, если бы он не пришел к этому языку, который есть единственный для поэтов «мирсконца».
Голосом звонким, как горлочервонцем шекспировского оборванца, были выброшены первые будетлянские слова:
Дыр-бул-щыл
Глы-глы-воггулы
Чагогдубия
Го-оснег-кайд.
Здесь впервые русская поэзия заговорила гортанью мужчины и вместо женственных: энных, енных, ений эта глотка исторгла букву «Г» – «глы-глы». Мужественность выразилась не в сюжете, что было бы поверхностно, но в самой сердцевине слова – в его фонетике, как это уже намечалось в словах: гвоздь, голан-дос, Ассаргадон, горилла…
К. Малевич пишет: «„Бумг, мумонг олосс, а чки облыг гламлы“ – в последнем Вашем облыг лежит большая масса звука, которая может развертываться, и конечные буквы дают уже сильный удар, подобный удару снаряда о стальную стенку».
Военный вызов
Ууа-ме-гон-э-бью
ом-чу-гвут-он
за-бью
Гва-гва. уге-пругу
па-гу.
Та-бу-э-шиш.
Бэг-уун-а-ыз.
Миз-ку-а-бун-о-куз,
са-ссакууи.
Зарья? Качрюк?!!!
(из книги «Водалый водолаз»).
(Кстати: это стихотворение еще раз докажет востроголовым пушкиньянцам, что они окончательно не могут отличить Крученых от Пушкина.) Стихи должны быть похожи не на женщину, а на «грызущую пилу». Вот какое обязательство принял на себя первый заумный поэт – Крученых.
Но это обязательство он выполняет, конечно, так же мало как и всякое другое, п. ч. он художник, которому не важно создавать в русской поэзии эпоху «мужества» или иную, – он должен жить, оставаясь чистым нулем – он может, напр., и пококетничать:
ик вик любверик
ики кри
Карчи!. . .
(«Будалый»).
Ему некогда останавливаться на исторической