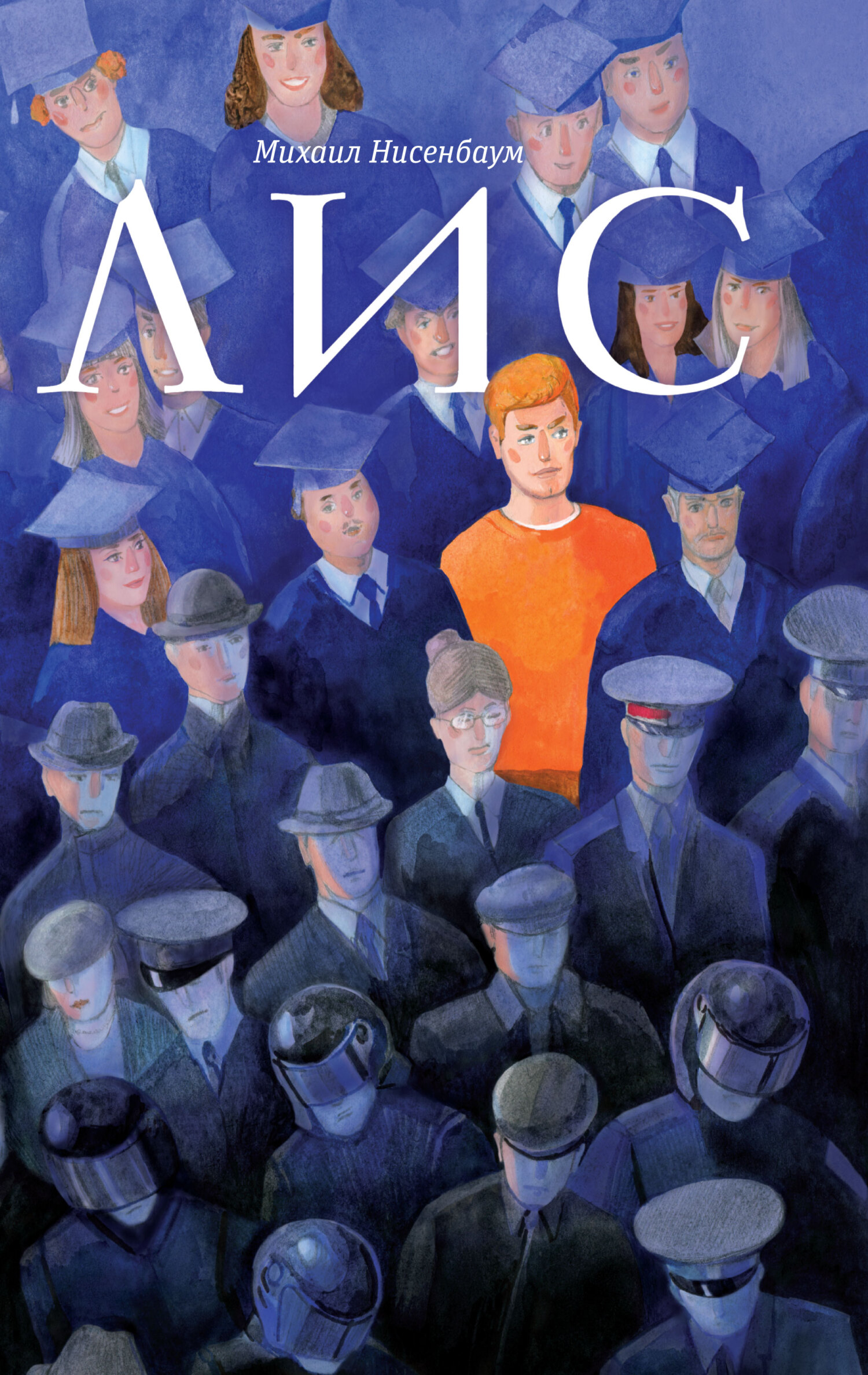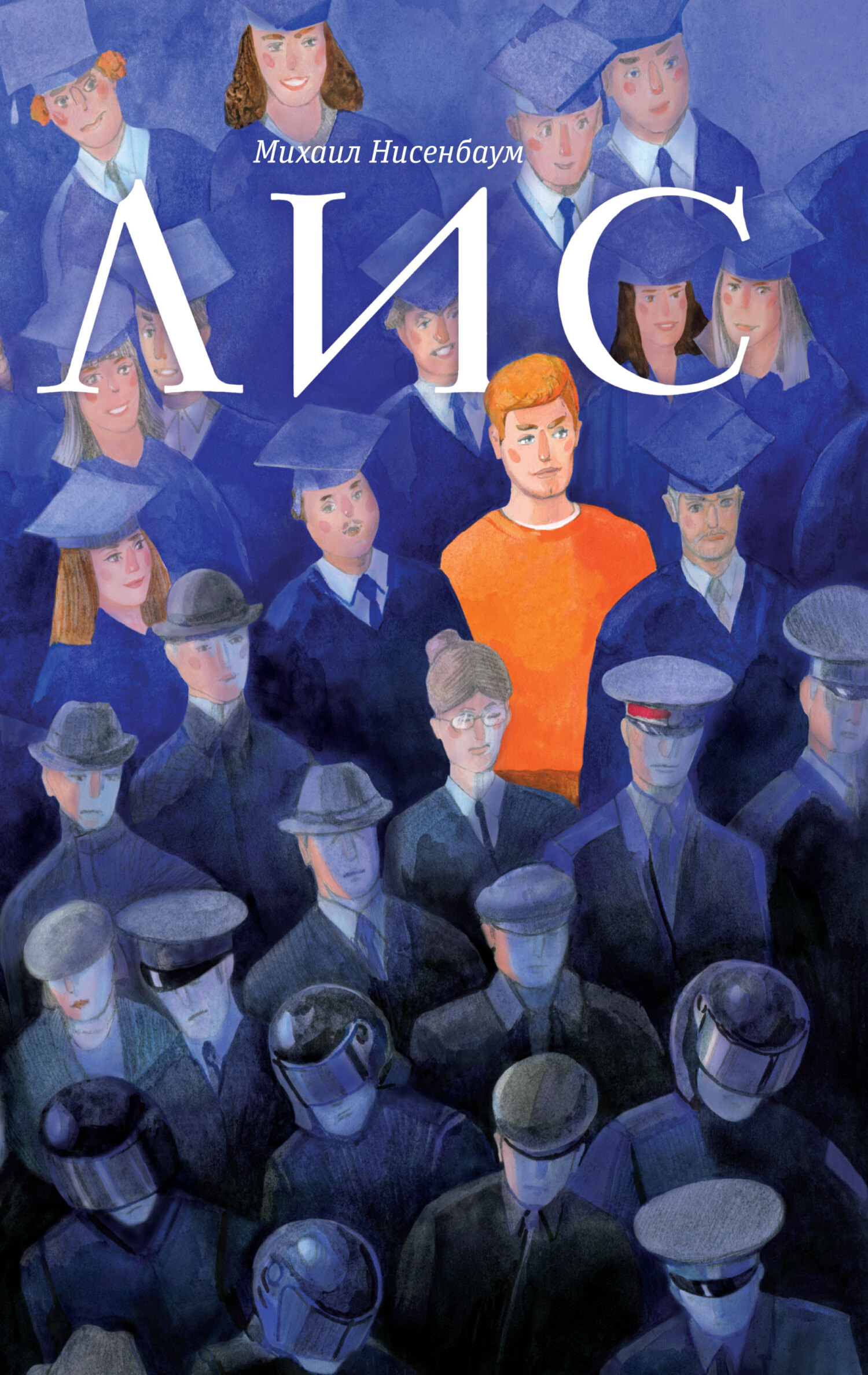просто сижу с закрытыми глазами, пока младенец высасывает из меня жизнь. Младенец, похожий на своего отца. Похожий на свой город, на свою землю, — на все, что меня окружает.
Так что я просто разрешаю себе думать о смерти.
Я вспоминаю о том, как мама, когда мне было десять лет, пошла со мной к живущей за городом брухе. Она хотела узнать изменяет ли ей мой отец. Но колдунья, едва увидев меня, взяла куриное яйцо, разбила его в стакан с водой и уставилась на желток, а потом сказала, что видит меня, сжигаемую адовым, яростным пламенем.
«Смотри, — сказала мне бру ха, указывая на стакан. — Я же знаю, ты тоже можешь видеть. Смотри внимательно».
Я послушалась и увидела, что в желтке полыхает яркий оранжевый огонь. И вдруг я оказалась в этом огне. Я чувствовала жар в груди, а огонь все горел и горел. Коже было горячо, и я думала, что сгорю прямо здесь, на кухне у этой женщины, но тут она забрала стакан.
Может, моя судьба — умереть в огне, подумала я тогда.
Может, именно так убьет меня Рэй, думаю я сейчас.
Он поймет, как сильно я его ненавижу, обольет бензином, чиркнет спичкой и будет смотреть, как я горю.
Но дело в том, что я хочу жить.
Я чувствую, как у меня забирают ребенка, и складываю руки на груди. Тиа Консуэло накидывает мне на плечи одеяло, и я поплотнее закутываюсь в него. Потом мама передает mua младенца, того самого, который не должен был появиться на свет и не имел никакого права захватывать мое тело, равно как и его отец.
Мама возвращается с чашкой горячего шоколада.
— Нет, — говорю я ей.
— От него будет больше молока.
— Прекрати!
Одна только мысль о молоке заставляет меня съежиться. Стоит мне вспомнить, что мое тело его выделяет, — и мне становится противно. Как будто я какое-то животное. Я встаю и ухожу в спальню.
— Крошка, — зовет мама, но я игнорирую ее и закрываю за собой дверь.
Спальня, которую я делю с мамой, маленькая и тесная, в ней с трудом помещаются кровать, шкаф, комод и зеркало. Тут пахнет нафталином, мамой и мной. Теперь еще и младенцем. И родами. Я чувствую этот „запах, хотя мама уже перестирала все простыни и подушки, вымыла пол, а после моей жалобы — еще и стены вдобавок. Но едкий запах моих внутренностей, крови и околоплодных вод остался. Вместе с запахом кислого молока, который исходит от моей рубашки и кожи. С тех пор как появился ребенок, я не могу больше спать в этой комнате. Теперь я сплю в гостиной, где нет сетки от насекомых, так что они кусаются и жужжат у меня в ушах.
Я сажусь на кровать и вижу собственное отражение в стоящем напротив зеркале. Мои длинные грязные волосы свисают по плечам. Я таращусь на свое лицо, не узнавая его.
Стук в дверь возвращает меня к действительности.
— Крошка, — окликает с той стороны Пульга, потом слегка приоткрывает дверь и заглядывает в спальню. — Хочешь поиграть?
В руках у него колода карт. Я ничего не отвечаю, но они с Чико медленно заходят в комнату. Мальчишки усаживаются, скрестив ноги, на нашу с мамой кровать, Пульга начинает тасовать колоду, и этот звук наполняет комнату. Потом он сдает карты, и я сосредотачиваюсь на тихом «щелк-щелк-щелк», с которым они ложатся перед нами.
V — С тобой все нормально, Крошка? — спрашивает Чико.
Я беру свои карты и смотрю на тройку червей. И вижу, как эти маленькие сердечки чернеют, съеживаются и превращаются в ничто.
— Крошка!
— Со мной все будет о’кей, — говорю я ему.
Я кладу карты. Эти сердца на них — наши. Это мы: Пульга, Чико и я. Ребята смотрят на меня.
— Случилось что-то плохое. И что-то еще плохое должно случиться.
Мальчишки переглядываются и опять смотрят на меня. У обоих одинаковое выражение лица: они пытаются скрыть ужас.
— Нам нельзя тут быть… Нельзя тут оставаться, — выдавливаю я.
Мои слова, кажется, не должны иметь для них никакого смысла, но я вижу, что это не так. Иначе они сказали бы, что я горожу всякую чушь и бессмыслицу.
Высмеяли бы меня, и Пульга заявил бы, что не верит в мои ведьминские штучки. Но они ничего такого не делают, а просто молча сидят на кровати и ждут, что я еще скажу.
— И что нам делать? — шепчет Пульга.
Перед моими глазами снова встает видение того, как они держатся за шеи. Поэтому я говорю то единственное, что могу сказать:
— Мы должны бежать.
Пульга
«Мы должны бежать».
Эти слова наполняют мое сознание, когда священник кропит святой водой гроб дона Фелисио. Соседи задвигают его в склеп. Донья Агостина держит в руках четки и рыдает.
Вчера на поминках она велела мне бежать. И Крошка тоже сказала, что нам нужно это сделать. А сегодня во время похорон я все время озираюсь в поисках Рэя или Нестора и могу думать лишь о побеге.
Толпа редеет.
Еще один день. Еще одна смерть. Еще одно тело.
Когда мы возвращаемся домой, измотанная мама опускается на диван. Сознание цепляется за красные бархатные диванные подушки. Кроваво-красные. Как много крови!
Мы должны бежать.
— Отдохните пока с Чико, — говорит мама, забрасывая на диван ноги и укладываясь, не сняв даже своего черного платья, — а я полежу немножко. Только входную дверь закройте и заприте.
Сидевший в дверном проеме Чико встает, и я делаю, как велела мама. Чико направляется в нашу комнату, я иду за ним следом. В воздухе разлита какая-то тяжесть, она давит на нас. Даже собственные шаги звучат зловеще.
Когда я прохожу мимо мамы, она тянется ко мне, ловит мою руку и произносит:
— Пульга…
Ее неожиданно крепко сжавшиеся пальцы и голос пугают меня. Я смотрю на ее усталое лицо, а она говорит:
— Te quiero muсho. Я тебя очень люблю, Пульгита.
— Я знаю, мама. Я тоже тебя люблю.
Мама явно хочет сказать что-то еще. Я вижу это по ее лицу. Но она просто кивает, отпускает мою руку и закрывает глаза.
Какое-то время я стою рядом с ней, гадая, не рассказала ли донья Агостина ей про свой сон. Или о чем-то могла проговориться Крошка. А может, мама начинает верить в силу брухи и в суеверия. Вероятно, мне тоже стоит начать в них верить. А вдруг и мама скажет, что я должен бежать, потому что это единственный выход?