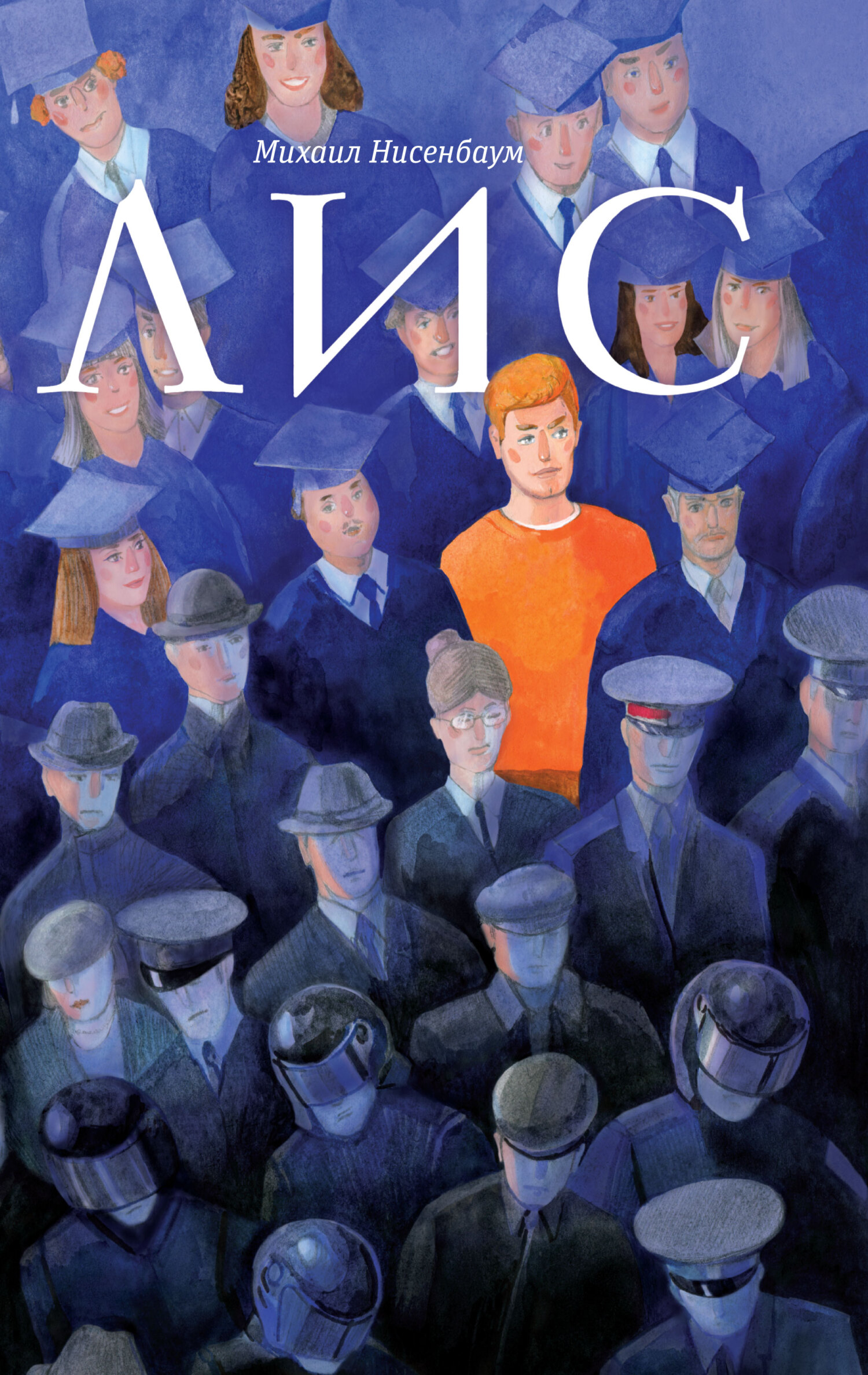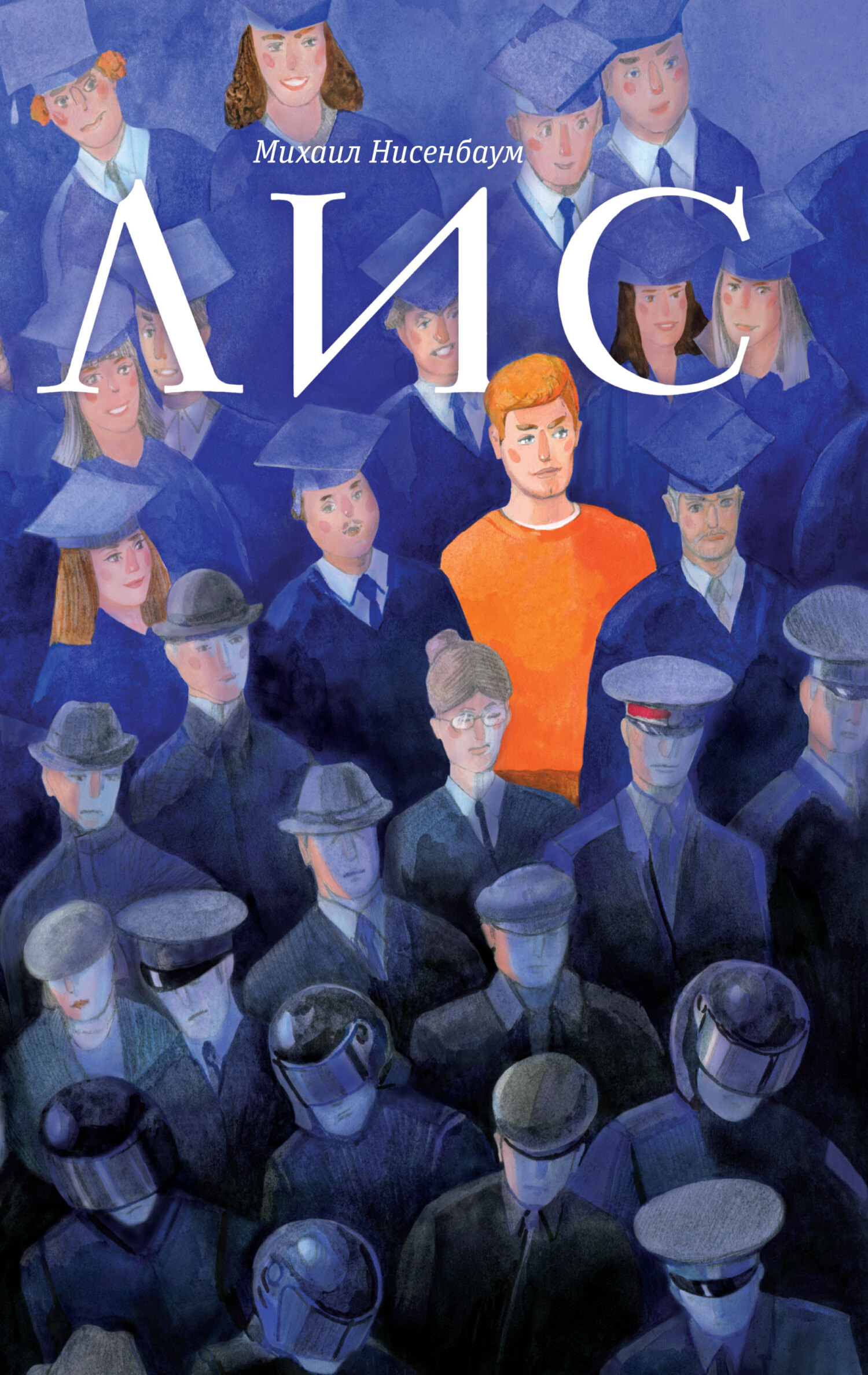Мы молча и медленно идем по пустым улицам баррио, дон Фелисио указывает путь. Я гляжу вниз, на свои пыльные ноги. Все вокруг кажется жутким, будто время тут остановилось и никого, кроме нас, не существует. Я оглядываюсь, стараясь увидеть наших соседей, но никого не замечаю. Дон Фелисио то и дело оборачивается и смотрит на меня. Я уже понимаю, куда мы направляемся. Но, только оказавшись на месте, я наконец-то замечаю людей. Это плакальщицы, которые стекаются к дому дона Фелисио и доньи Агостины.
Старик снова смотрит на меня, его лицо печально, и мне не хочется больше следовать за ним. Но я знаю, что должна это делать. Мы, как призраки (хотя мы и есть призраки), проходим среди плакальщиц и, миновав их, оказываемся в комнате, где у гроба собрался народ. Это гроб дона Фелисио. Мама и mua Консуэло расставили вокруг него свечи и букеты цветов. Дон Фелисио подводит меня к гробу, и мы вместе смотрим на мертвое лицо.
Гроб закрыт стеклянной крышкой, и под ним лицо дона Фелисио похоже на уродливый цветок, который положили под пресс, — чтобы засушить. Я перевожу взгляд на стоящего рядом со мной призрака и вижу, что он теперь с трудом дышит.
Меня охватывает паника. «Все в порядке», — пытаюсь сказать я ему, но с губ не слетает ни слова, и мне остается лишь про себя повторять это снова и снова, надеясь, что он сумеет понять мои мысли. Но чем дольше он смотрит на самого себя, лежащего под стеклом, тем труднее ему становится дышать.
Он выпускает мою руку и обхватывает свою шею. Чтобы дышать, ему требуется все больше усилий, и комнату наполняет звук ужасного бульканья. Я оглядываюсь по сторонам, но больше никто этого не слышит. Люди едят тамале, которые приготовили соседки покойного, и хлеб, который они испекли. Прихлебывают кофе и говорят тихими голосами, пока дон Фелисио пытается что-то сказать, но получается только бульканье и хрипы. Его лицо выражает отчаяние, и я не могу успокоить его, хотя снова и снова пытаюсь это сделать.
Потом из него начинает хлестать кровь, как будто кто-то открыл кран. Крови много, и она течет между пальцев.
Я кричу, или это мне только кажется. Но никто меня не слышит.
«Я не понимаю, что вы пытаетесь мне сказать. Пожалуйста, перестаньте, пожалуйста!» — мысленно повторяю я.
С выпученными глазами дон Фелисио смотрит на что-то у меня за спиной. Он отрывает одну руку от шеи и указывает куда-то окровавленным пальцем. Я оборачиваюсь и вижу в толпе Пульгу и Чико. Они негромко переговариваются между собой. Чико выглядит грустным и испуганным, Пульга — встревоженным. Я ничего не понимаю, хотя и пытаюсь свести воедино все, что вижу. На мгновение мне кажется, что дон Фелисио обвиняет в чем-то мальчишек, но это наверняка не так.
Хрипы старика наполняют мои уши, становясь все громче и громче.
«Я не понимаю!» — Я опять оборачиваюсь к Пульге и Чико, и тут их бросает в дрожь.
Их тела трясутся. А потом я вижу, как из их ушей начинает течь кровь, в точности каку дона Фелисио. Глаза мальчишек становятся огромными от страха и отчаяния. И кровь течет у них между пальцев.
«Нет! — кричу я, поворачиваясь к дону Фелисио, но он тоже держится за шею, а его глаза устремлены в потолок. — Я не хочу этого видеть! Остановите это, пожалуйста!»
Я пытаюсь заставить себя проснуться. Пытаюсь снова отыскать дверь, чтобы сбежать из той реальности, что наполнила собой мой воображаемый мир.
Но я не могу дышать. И глотать тоже становится трудно. Я касаюсь рукой шеи. Она влажная и теплая. Когда я смотрю на пальцы, вижу, что они испачканы в ярко-красной крови. Я мотаю головой и пытаюсь крикнуть: «Нет!» — но меня опять никто не слышит. Повернувшись к дону Фелисио, я ищу у него помощи. Он стоит рядом, хрипит и булькает, а потом все-таки переводит на меня взгляд. У него огромные, полные отчаяния глаза. И тут единственное слово наконец срывается с его уст.
Всего одно слово, но оно заполняет собой все мое сознание:
«Беги!»
— Крошка, — зовет меня мама.
Я вся трясусь и плачу. Во рту скопилась слюна. Я задыхаюсь.
Она снова произносит мое имя, и я открываю глаза. Младенец заходится в крике, а мама, одетая в черное, стоит передо мной. Мои груди сочатся молоком.
За спиной у нее mua Консуэло, Пульга, Чико и донья Агостина, вернувшиеся с поминок по дону Фелисио.
— Estas bien? Все нормально? — спрашивает мама. — Ты неважно выглядишь, как будто призрака увидела.
Я потею, и кожа кажется липкой. Она касается рукой моего лба, и ее лицо делается озабоченным.
— Кажется, у тебя температура.
— Я в порядке, — бормочу я.
Она снова хмурится.
— Ты поменяла малышу подгузник?
Я не отвечаю. Мами и mua переглядываются. Младенец плачет все громче.
— Ты кормила его? — следует очередной вопрос.
Я опять не отвечаю и слышу, как громко и быстро стучат мамины каблуки, когда она удаляется.
Я сажусь в кровати и поворачиваюсь к телевизору. Там идет сериал. Мужчина целует женщину против ее воли. Я закрываю глаза, а когда открываю их снова, на экране уже новости. Диктор рассказывает об очередных смертях. О телах. Не о живых людях. Люди больше ничего не значат. Только тела. Входит mua Консуэло, целует меня в макушку, гладит по голове. Возвращается мама с плачущим, сердитым младенцем. Она сует его мне, пристраивая к груди.
— Тех маленьких бутылочек с пробниками смеси больше нет, Крошка. А ему надо поесть, — говорит она.
Я качаю головой.
— Прости, милая, я знаю, что это не то, чего ты хотела. — Мамин голос делается мягче. — Но мы не можем заморить ребенка голодом.
— Я не буду его кормить.
— Крошка! — Голос мамы звучит резко и жестко. — Я пыталась дать тебе время, чтобы ты привыкла ко всему этому. Но мы не можем позволить себе каждую неделю покупать детское питание. А если ты не начнешь его кормить, у тебя пропадет молоко. Ты должна этим заняться, дочка. Мне жаль, что все так вышло. Мне очень-очень жаль.
Я знаю, что она действительно жалеет меня, но это не мешает ей расстегивать на мне рубашку. Ротик младенца ищет сосок.
Я закрываю глаза, мотаю головой и начинаю плакать. Я слышу, как mua Консуэло отсылает прочь мальчишек:
— Muchachos, salganse! Ребята, уходите!
Мама прикладывает малыша к моей груди, одновременно пытаясь объяснить, как надо кормить его. Но я не могу слушать. Я