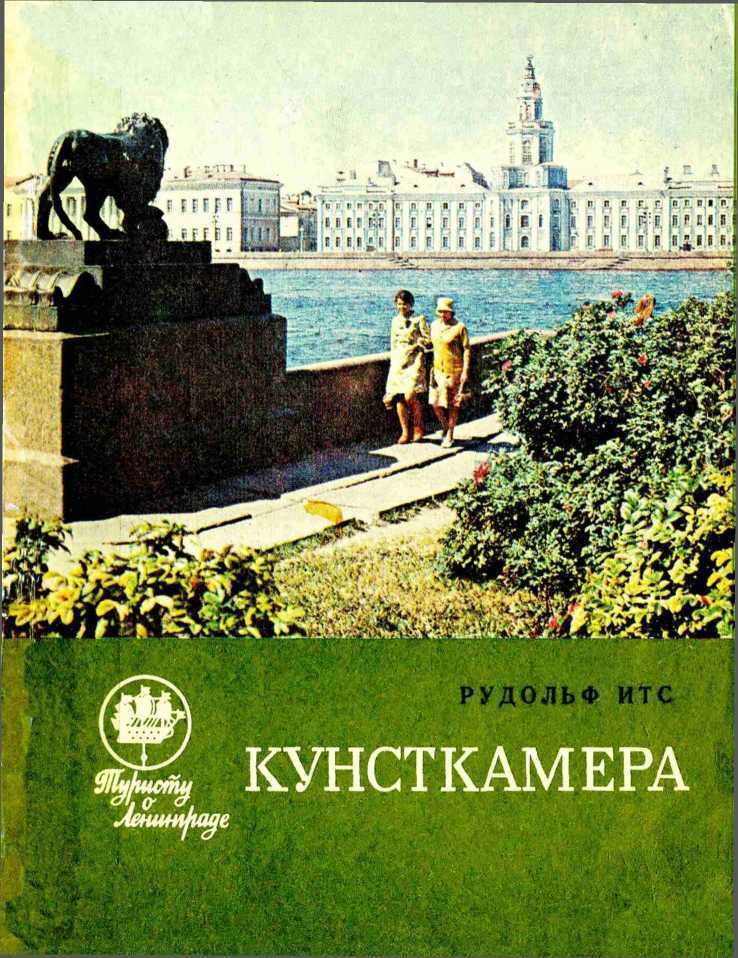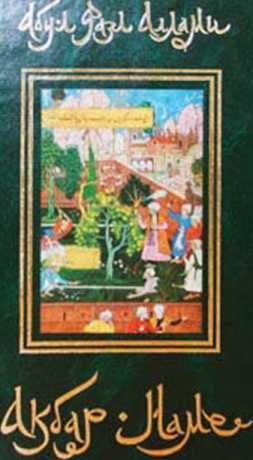при виде меня и Шмидта сильно хлопал дверью. Я занимал комнату, смежную с его.
13 августа. Утром сейчас же собрался в дорогу, хотя и видел, что экипаж в починке. При выезде бранил меня по-русски, причём я ничего не отвечал. Маевский передал мне его приказание остаться, не сопутствовать ему более. Обращение “Господин Доктор”, которое он слышал в устах обоих прислуживающих мне лиц, он часто повторял с насмешливым смехом. Заметив как-то, в экипаже, его насмешливую усмешку, я придал своему лицу подобное же выражение; это ему крайне не понравилось и он прекратил свой смех. Он решительно не мог переваривать вопрос о времени. “Что такое часы? – обыкновенно спрашивал он и при этом прибавлял: – Вечность!” Однажды, как бы насмехаясь, он с ужимками сделал вид, что вынимает из кармана часы. Вечером мы приехали в Подпорки. Он было вышел, но сейчас же опять влез и ночь проспал в экипаже. Мы же все трое заняли прекрасную комнату, какие нередко встречаются на городских почтовых станциях.
14 августа. В 4 1/2 часа утра больной постучался к нам в дверь и был впущен Маевским в комнату; прохаживаясь в ней вдоль и поперёк, он издевался над нами. “Ага, господа поселились в настоящем дворце!” – говорил он и ещё многое в том же роде. Ночь была дурная, дождь лил не переставая, а резкий ветер должен был ему дуть в лицо; плохо выспавшись, он досадовал, что мы провели ночь в удобной комнате. Пока запрягали лошадей, он, немного пройдя по улицам, улёгся на траву в ожидании нас. Влезая в экипаж, не только бранил меня, но и грозил кнутом; вообще больной держался день ото дня нестерпимее, и желание возможно скорее добраться до цели нашего путешествия делалось у всех нас троих всё живее и живее. Маевский начинал мало-помалу терять расположение больного, который уже несколько раз повторял ему, что прежде считал его Святым Пименом, но теперь он просто-напросто окаянный. В Перемышле мы снова исправляли задний ход у экипажа; в это время он лежал на траве, за ветром, который был в тот день довольно резок. Входя в экипаж, он бранил Шмидта, сидевшего на козлах. Грозил уже не первый раз, по приезде в Москву, отстегать всех нас кнутом. В Калуге я послал Маевского разменять деньги; впопыхах он забыл предупредить ямщиков, чтобы они повременили с запряжкой до его возвращения, даже вопреки приказаниям г-на надворного советника. Оставшись со Шмидтом у экипажа, я был поставлен в крайне затруднительное положение. Больной постоянно приказывал запрягать, а я секретным образом отменял приказы. Прошло с добрых полчаса, начали запрягать, и Маевский вернулся вовремя. Мы проехали ещё одну станцию, а именно Сикейково, куда прибыли засветло. Было бы неблагоразумно пускаться в дорогу: ночи были тёмные, а дороги отвратительные. Я прошёлся по берёзовой рощице и, выходя, встретился с больным. Хотя ему и отвели хорошую комнату, но он предпочёл заснуть в экипаже, куда был подан чай. Пригрозив кнутом близстоящим ямщикам, чтобы они не мешали ему, он наконец успокоился. Я с удовольствием провёл вечер; мне приятно было отдохнуть и после усталости, и после путевых передряг.
15 августа. Встав вовремя, гулял по улице. Вернувшись, осыпал меня градом бранных слов. Я совершенно спокойно сделал по направлению к нему несколько шагов и, не говоря ни слова, взглянул на него. Когда нужно было садиться в экипаж, он публично приказывал Маевскому не впускать меня, но тот, конечно, не послушал его и помог мне войти. Больной делался решительно с каждым днём резче и потому для окружающих нестерпимее. В Малоярославце Яков, которого он постоянно в своём нетерпении торопил, проявил относительно него грубость, желая остановить его понукания, он пригрозил ему шапкой. Мы принуждены были снова остановиться, вследствие некоторой поломки в самом кузове экипажа. Осмотрев его, я обратился к Маевскому с вопросом: “Как Вы думаете, рискованно в нём отправляться?” Больной, подхватив мои слова и не понимая, что может сам пострадать, принялся осуждать меня за мою мнительность в самых резких выражениях. Следующую за Малоярославцем станцию я еле высидел с ним: дорога была убийственная, экипаж из одной ямы проваливался в другую; считая меня виновником ужасной дороги, больной шумел и кричал, не подымая, впрочем, на меня рук; будучи для его ярости главной мишенью, я должен был быть ко всему готов. Так как он говорил по-русски, я ничего не мог понять, заметил только, что он грозил мне кнутом и несколько раз выпаливал мне прямо в ухо слово “Бог”. Постоянное сидение вместе ужасно надоело мне. Было ещё не поздно, когда мы приехали в Бекасово, но тем не менее предпочли остаться здесь, так как нас предупредили, что дорога хуже не в пример прежней. Г-н надворный советник вспомнил, что в этой подмосковной гостинице он как-то провёл несколько беспокойных ночей, поэтому не решился войти в комнаты, а погулял немного, уселся опять в экипаж. До Москвы нам оставалось всего две станции. Проехав рядом с больным более 320 вёрст, я всем сердцем жаждал отдыха. Так как предстоящая дурная дорога сулила мне впереди те же бури, а мне хотелось привезти больного в Москву в более спокойном состоянии и вместе с тем на деле убедить его, что не я вызывал падения экипажа, всё это заставило меня решиться нанять себе кибитку, а место моё в экипаже уступить Маевскому. К тому же и места не было вследствие поломки в нижнем ходу, Шмидт не мог там оставаться. Таким образом самое трудное было пережито; с облегчённым сердцем думал я о завтрашнем дне. До Москвы оставалось всего 8 миль.
16 августа. Он был страшно возбуждён и бранился без перерыва. Хозяин гостиницы, итальянец по происхождению, говорил нам, что не согласился бы быть при больном ни за какую цену. На это Маевский ответил ему, что я уже больше не поеду с ним. “Это хорошо, хорошо!” – заметил он. Кибитка моя приехала, и я не сел, а, скорее, улёгся в неё и поехал несколько вперёд. Прежде чем лошади тронулись, больной прошёл мимо меня, конечно, видел меня, но не подал ни малейшего вида. Вначале Маевский сильно спорил с больным, но видя бесплодность увещаний, потребовал у Шмидта рубашку, которая всегда лежала под подушкой переднего хода. Он было раз вышел из экипажа несмотря на ужаснейшую непогоду и уже силой был посажен. Дорога в самом деле оказалась убийственной. Мы приехали в Шарапово. Больной, обойдя вокруг моей кибитки, в которой я лежал и курил,