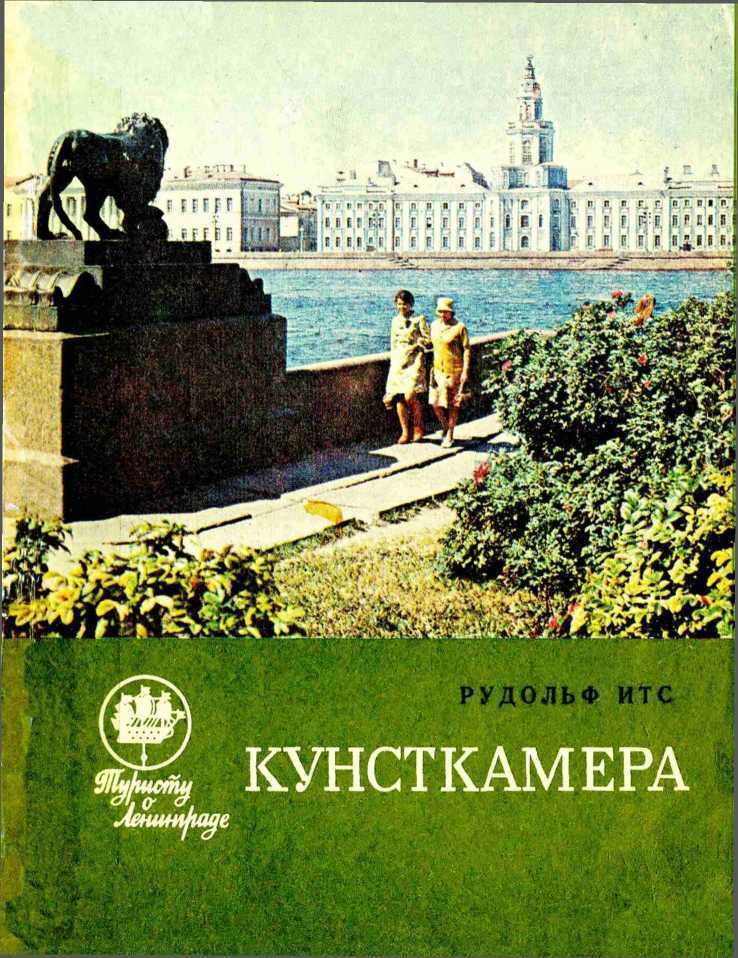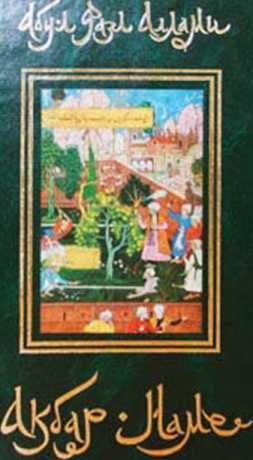начал о чём-то разговаривать с моим извозчиком, по-видимому, очень резко, тот противоречил ему. Вероятно, он отдавал извозчику приказания не везти меня дальше, при этом, конечно, бранил меня. Несколько русских крестьян, тут стоявших, улыбаясь, посматривали на меня. Я заехал на постоялый двор, где мне припрягли трёх свежих лошадей. Когда экипаж опережал мою кибитку, больной, завидя меня, закричал что было мочи, но затем успокоился и был тих до самой Москвы. У заставы он назвал караульному своё имя: “Константин Батюшков”, вполне уверенный, что узнав, кто он такой, его немедленно пропустят. Зная, что я еду вслед за ним, больной, высунувшись, усиленно махал рукой, как бы давая караульному знать, что он не должен пропустить меня.
Адрес квартиры, которую обещала нанять для нас и устроить барышня, должен был быть, по условию, нам сообщён или на последней станции, или у заставы; не получив его, мы принуждены были отправиться в гостиницу. Следуя рекомендации барона Барклая, мы выбрали гостиницу Коппа, недалеко от Тверской. Больной вымылся и переоделся. Здесь получил я и желаемый адрес. На следующий день Яков и Шмидт перевезли больного в назначенное ему помещение; он не хотел оставаться на новой квартире, потому что в ней, по его мнению, воняло, и он бранил свою семью, когда узнал, что ей принадлежал выбор квартиры. Не желая раздражать его своим присутствием, я ему совсем не показывался. Наконец-то окончилось наше ужасное путешествие. Имея сам немного спокойных часов, он причинял нам не мало забот, даже когда бывал с нами в мире, спокойствие его было совершенно своеобразное, которому нельзя было доверять. Как я уже выше говорил, он неожиданно вскакивал и ударял сидящего напротив, часто кричал; бывало думаешь, что заснул, а он примется топать ногами или рвать фартук, или раздеваться, или начнёт в упор смотреть на солнце, словом, о покое нельзя было думать ни днём, ни ночью. Признаюсь, что проблески разума, сквозившие в его обращении, часто и меня вводили в заблуждение, и я вследствие этого старался найти между его мыслями и поступками более связи и последовательности, чем было в действительности. Путешествие дало мне возможность узнать несчастного человека вдоль и поперёк. Последнее время он выдавал себя за святого, вследствие чего отпустил себе бороду и часто с наслаждением поглаживал её. Молился гораздо реже. Вообще же он приехал в Москву в таком же точно состоянии, в каком был в Зонненштайне, ни хуже, ни лучше.
Батюшков не болен
В “Неистовом Роланде” есть глава, в которой фантазия Лудовико Ариосто, кажется, превосходит себя. Это глава, посвящённая безумию героя. Из-за несчастной любви он теряет разум и “выпадает” из главного сюжета – битвы за Париж. Его друг Астольф берётся вернуть рыцаря в строй. Но как? Сделать это непросто, ведь утраченный разум Роланда волей автора удалён на Луну – как, впрочем, и все остальные разумы, сбежавшие от своих владельцев. Значит, Астольфу предстоит путешествие на небо, куда он и летит в колеснице. Перед читателем открываются фантастические пейзажи: сады и замки, и сказочные чертоги. Здесь, как в библиотке, хранятся утраченные рассудки. Лунные картины нарисованы с такой изощрённостью, что, кажется, само воображение автора лишилось разума. Однако по смыслу изображение остаётся предельно реалистичным, и мы это чувствуем – точно так же, как чувствуем в поведении безумца неявную, но ощутимую логику. То, что было человеком утрачено, говорит Ариосто, не исчезает бесследно. И впустую прожитое время, и напрасные мечты, и красота молодости, и здоровье, и похожая на дым слава – всё то, что человек считал важным или незыблемым, и неизбежно утратил со временем – просто переместилось на Луну, где и хранится под присмотром ветхого, но проворного старика.
Этот старик – Время. Судя по письмам Батюшкова, “ариостов” образ суетливого старика чрезвычайно захватывает поэта ещё в разумной жизни. “Сей старец, что всегда летает, / Всегда приходит, отъезжает, / Везде живет – и здесь, и там, / С собою водит дни и веки, / Съедает горы, сушит реки / И нову жизнь дает мирам…” Мы помним, что переводы из “лунной” песни сохранились только в письмах Гнедичу. Батюшков выполнил их в деревне, где “дышал чистым воздухом Флоренции” – читал в подлиннике “Роланда”. Он хочет перевести главу о лунном путешествии целиком, настолько она впечатляет поэта, и, действительно, переводит “листа три”. От которых сохранятся, как и было сказано, две разрозненные строфы в письмах.
То, что Время у Ариосто суетливо и пронырливо, вполне объяснимо – покойников поступает на Луну приличное множество, и, хочешь не хочешь, надо опускать таблички с их именами в Лету. Если вспомнить о человеке нечего, табличка тонет. А не проходит память только благодаря искусству. Кого в искусстве воспели, считает Ариосто, тот угоден богам и останется в памяти. Вот почему над Летой кружат вороньё и лебеди. Чёрные, то есть бездарные поэты (вороньё), бездарно воспевшие героев, – не в силах вытащить их таблички и спасти от забвения. А белые, то есть настоящие (лебеди) – своих спасают.
Год 1822-й, Пятигорск, минеральные воды. Первые признаки душевного нездоровья Батюшкова замечает Матвей Муромцев. Адъютант Ермолова, он знаком с Константином Николаевичем по военным кампаниям. На момент встречи на Кавказе Батюшков уже два года как бросил дипломатическую службу и самовольно убрался из Италии в Саксонию, Теплиц, для лечения на водах. А теперь через Петербург приехал за здоровьем на российские воды. Муромцев, получивший ранение в голову ещё в 1812-м, на Кавказе тоже лечится. Вынуть пулю не удаётся, и врачи готовят Матвея Матвеевича к безумию. Оно и является – правда, в образе поэта. Хотя в чём конкретно эти симптомы? Если бы не странная привычка Батюшкова мрачнеть и уходить, как только к Матвею приближались знакомые – “никакого расстройства в нём не было заметно”. Однажды ночью, впрочем, всё меняется. “Раз ко мне прибегает его камердинер Петруша, – пишет Муромцев, – и зовёт меня к нему. Прихожу и нахожу его ходящим скорыми шагами по комнате; он уверял меня, что мыши, крысы на потолке и под полом не дают ему покоя. Петруша же меня уверял, что всю ночь он был при нём и всё было тихо”. “На другой день ему сделалось хуже, он стал заговариваться”. Понимая, что дело плохо, Батюшков просит отправить его в Петербург. Муромцев хлопочет нанять Батюшкову сопровождающего. “На вопрос мой, почему он не ляжет отдохнуть, он мне отвечал: «Je veux prendre des bains debout»”. “Des bains – debout” (ванны на ногах, ванны для