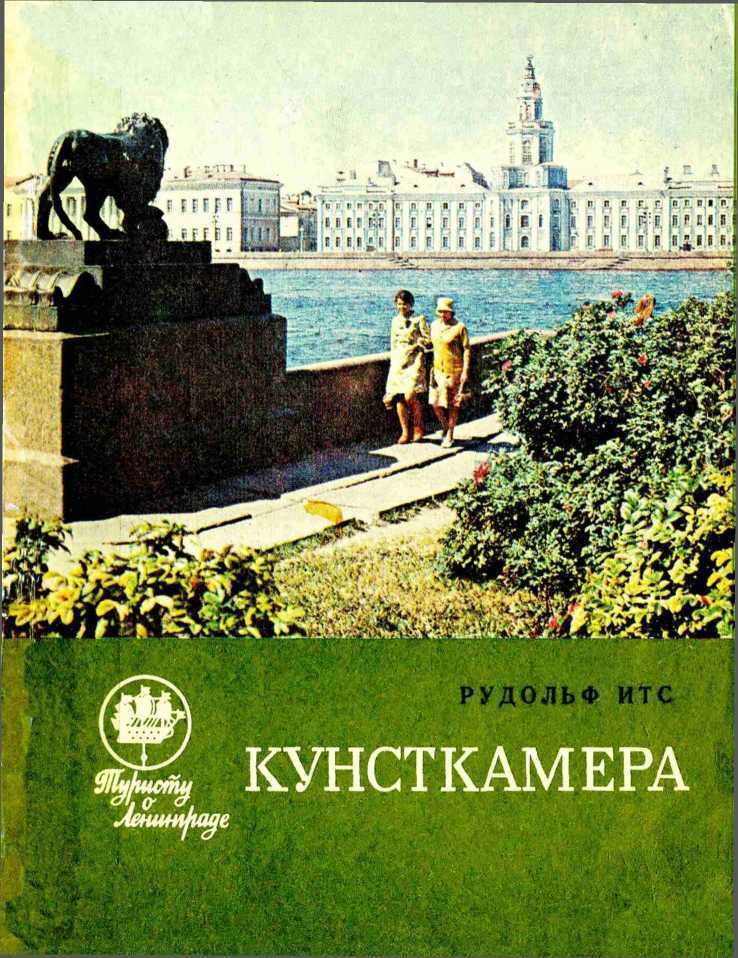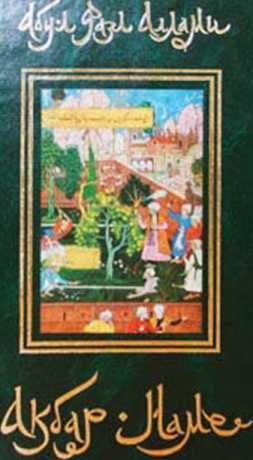– гряды гор, отделяющих Кампанию от Абруццо и Апулии. Этим не граничится вид с моей террасы: если обращу взоры к стороне северной, то увижу Гаэту, вершины Террачины и весь берег, протягивающийся к Риму и исчезающий в синеве Тирренского моря. С гор сего острова предо мною, как на ладони, остров Прочида; к югу – Капри, где жил злой Тиверий…
Ночью небо покрывается удивительным сиянием; Млечный Путь здесь в ином виде, несравненно яснее. В стороне Рима из моря выходит страшная комета, о которой мы мало заботимся. Такие картины пристыдили бы твоё воображение. Природа – великий поэт, и я радуюсь, что нахожу в сердце моем чувство для сих великих зрелищ; к несчастию, никогда не найду сил выразить то, что чувствую: для этого нужен Ваш талант…
Посреди сих чудес, удивись перемене, которая во мне сделалась: я вовсе не могу писать стихов. Граф Хвостов сказывал мне однажды, что три года был в таком положении; но за то могу сказать с покойным князем Борисом, что пишу на прозах довольно часто. Я никогда не был так прилежен. К несчастию, и я не могу говорить об этом без внутреннего негодования, здоровье мое ветшает безпрестанно: ни солнце, ни воды минеральные, ни самая строгая диэта, ничто его не может исправить: оно, кажется, для меня погибло невозвратно. И грудь моя, которая меня до сих пор очень редко мучила, совершенно отказывается. Италия мне не помогает: здесь умираю от холоду, что же со мною будет на севере? Не смею и думать о возвращении.
…я пишу мои записки о древностях окрестностей Неаполя, которые прочитаем когда-нибудь вместе. Я ограничил себя, сколько мог, одними древностями и первыми впечатлениями предметов; всё, что критика, изыскание, оставляю, но не без чтения. Иногда для одной строки надобно пробежать книгу, часто скучную и пустую. Впрочем, это всё маранье; когда-нибудь послужит этот труд, ибо труд, я уверен в этом, никогда не потерян.
Здесь, на чужбине, надобно иметь некоторую силу душевную, чтобы не унывать в совершенном одиночестве. Друзей даёт случай, их даёт время. Таких, какие у меня на севере, не найду, не наживу здесь. Впрочем, это и лучше. Какое удовольствие, вставая по утру, сказать в сердце своём: я здесь всех люблю равно, то-есть, ни к кому не привязан и ни за кого не страдаю.
Александра Ивановича обнимаю от всей моей великой души: я знаю, что он любит во мне всё, даже и моё варварство, ибо он угадывает, что я не варвар. Вяземскому скажи, что я не забуду его, как счастье моей жизни: он будет вечно в моём сердце, вместе с тобою, мой жук. <…> Будь здоров, моё сокровище! Не забывай меня в земле льдов и снегов, и добрых людей; я помню тебя в земле землетрясений и в свидетельство беру М.Е. Храповицкого, которому завидую: он увидит отечество и тебя. Прости.
Часть VIII
Из дневника доктора Антона Дитриха. 1828
10 августа. Считая себя владельцем экипажа и привыкнув к тому, что ему отводилась, при остановках, лучшая комната, больной начал на себя смотреть как на главное лицо между своими сотоварищами, некоторым образом как на барина, и ему не нравилось, когда мы, помимо его, требовали себе чай. В этот день не случилось ничего достойного замечаний. В Сергиевке мы целый час прождали лошадей; в это время он гулял и, когда открывался живописный вид, он прилегал на земле и долго любовался им. Вчера он не поминал о нашем падении; сегодня же, одумавшись, просил устранить подобные случайности, так как у него до сих пор болят руки и ноги; хотя боль, по всей вероятности, не была значительной, иначе она проявилась бы каким-нибудь внешним образом. Мы ночевали в Зомове. Больной спал в экипаже; был спокоен.
11 августа. Ничего выдающегося. Мы ночевали на станции. Г-н надворный советник спал в экипаже, под охраной одного из нас.
12 августа. Заболел Маевский: он испортил себе желудок и к тому же простудился, результатом были рвота и понос; г-н надворный советник болезни этой во внимание не принял и продолжал требовать от него услуг. Рано утром, прежде чем запрячь лошадей, больной вздумал под дождём гулять; вынув из экипажа шубу, он простлал её на землю и улёгся на неё. Перед выездом он попросил стакан воды и взбрызнул им свою шубу. Сидя в экипаже, он заметил, что я соприкасаюсь с ним, сейчас же одел шубу, перекрестив сперва осквернённое место. Мы было со Шмидтом вышли из экипажа, но принуждены были вследствие отвратительной погоды снова войти. При наклонах экипажа, когда одна сторона колёс приподнималась, больной высказывал страх и обрушивался на меня, как на главного виновника всех этих ужасов. Я, чтобы не раздражать его, делал вид, что ничего не слышу. Решившись ехать не через Тулу, а через Калугу, мы, выехав 10 августа из Упорон, повернули назад, не более как на одну версту. Больному представилось, что его хотят снова везти в Зонненштайн, он пришёл в страшную ярость: с злобой смотря на меня, он начал кричать по-русски и приподнял локти, как бы желая ударить меня. Не понимая хорошо его намерений, я поднял угрожающим образом палец и промолвил: “Не смейте бить!” “Я не буду тебя бить, – ответил он, – так как не желаю осквернять своих рук; Сам Бог накажет тебя!” Крепко стиснув кулаки, он указал ими на землю и на небо, и при этом пробормотал несколько слов, которые я не мог понять. Вероятно, он призывал на мою голову все громы небесные. Сегодня он, хотя и высказывал то же самое, но в менее резкой форме. Впереди нас ожидали горы и размытая непрерывными нескольконедельными дождями дорога. Ямщики пользовались каждым сносным клочком и погоняли лошадей, больной, боязливо придерживаясь, постоянно кричал: “Тише, тише!” Не доезжая Белёва Шмидт был сброшен с заднего хода, снова, по всей вероятности, испортившегося. При самом въезде в город мы чуть не опрокинулись; у заднего хода оборвались верёвки и сломались железные скобы, и поддерживаемые ими два сундука упали. Хотя еще было не поздно, тем не менее пришлось остановиться в городе. Шмидт остался сторожить сундуки до приезда со станции ямщиков. Больной с бранью отправился в назначенное ему помещение; плачевное состояние экипажа нисколько не убедило его в необходимости исправления, хотя в экипаже сломалась чека и экипаж наклонился на правую сторону. В своей комнате он долго стоял коленопреклонённый перед образами и много молился; говорил с самим собою;