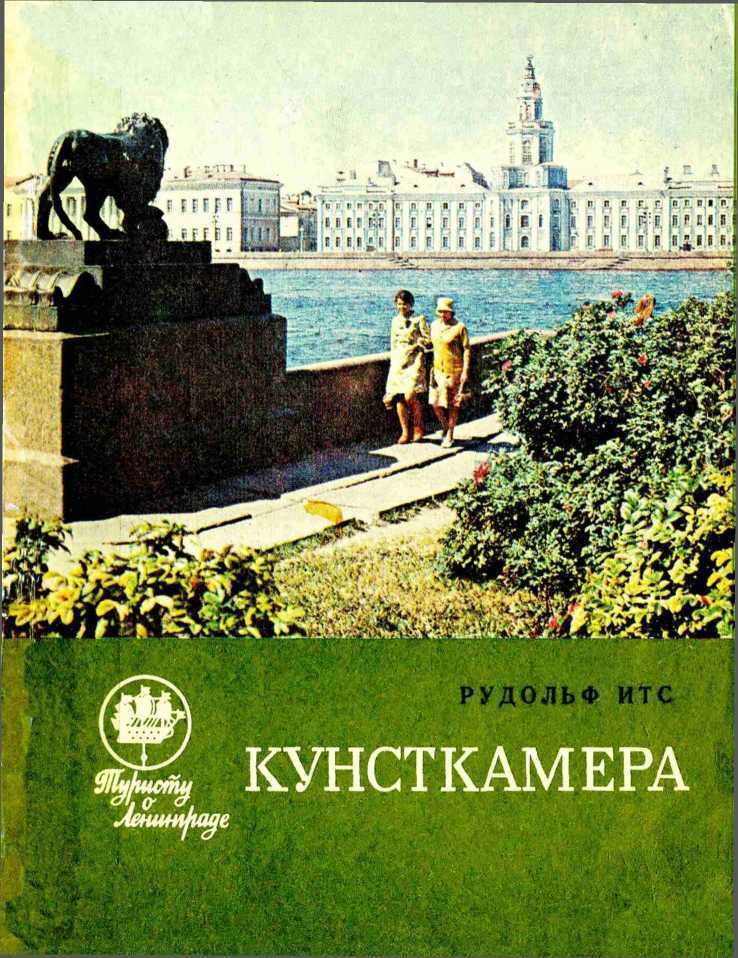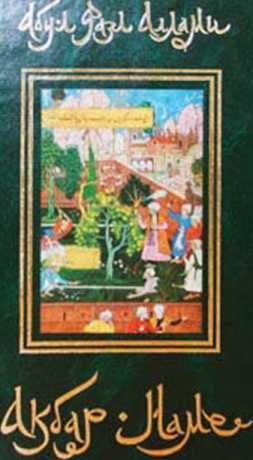Лондоне лишь в отрывках на французском.
К 1820 году за творчеством Байрона следит уже вся просвещённая Европа.
Для каждого из крупных поэтов Италия – творческий вызов. В этом смысле Байрон, пожалуй, самый “отзывчивый” из писателей. Италия даёт ему не только материал для поэтического размышления. Он заимствует форму, интонацию. Его “Беппо” и “Дон Жуан” написаны “ариостовскими” октавами, а саркастический тон подслушан у Пьетро Буратти, зло и точно насмехавшегося над местными властями и нравами в своих “народных” сатирах. В “Беппо” и “Дон Жуане” Байрон будет высмеивать венецианские и английские нравы схожим образом.
Эхо этой интонации чуть позже зазвучит у Пушкина в “Онегине”, но Батюшков? Кроме шести антологических стихотворений из цикла “Подражания древним” – кроме трёх маленьких шедевров (“Ты просыпаешься, о Байя, из гробницы”, “Есть наслаждение и в дикости лесов” и “Подражание Ариосту”) – от “итальянского” Константина Николаевича ничего не останется. Среди поэтов он поставит как бы антирекорд. В Италии он напишет очерки о неаполитанских древностях, но мы можем только с горечью фантазировать, какими были батюшковские “Образы Италии”. То же относится к “Божественной комедии”. В октябре 1821 года Вяземский сообщает Тургеневу, что Батюшков “…переводит Данта и напечатает его под чужим именем” – но переводы эти не дойдут до нас тоже; и “Очерки”, и “Божественную комедию” Батюшков сожжёт в минуту депрессии.
Казалось бы – фиаско, катастрофа.
Но: и да, и нет.
Перед самым отъездом в Италию Константин Николаевич не случайно скажет Тургеневу, что знает Италию, не побывав в ней. Это действительно так. Стихи Батюшкова (начиная с ранних) буквально пропитаны образами из итальянской словесности. Он ведёт диалог и с Тассо, и с Ариосто, и в этом подобен Петрарке, призывавшему тени великих поэтов. Не будем забывать, что первое русское стихотворение, посвящённое Торквато, и первое эссе о нём – написаны Батюшковым. Первое поэтическое переложение “Неистового Роланда”, пусть и крошечного фрагмента – тоже выполнено Константином Николаевичем. Из-под его пера выйдет и первый в России очерк жизни и творчества “певца Лауры”. В своём эпикурейском жизнелюбии – и одновременно стоическом осознании бренности земной жизни – Батюшков вторит Петрарке, чья интонация как бы скрашивает элегическую унылость многих сочинений нашего поэта. Тассо скрыто цитирует Петрарку – Батюшков первым “узнаёт” цитаты. Он прямо указывает на преемственность эпох Возрождения. Таким же путём в прошлое (от Ариосто и Тассо к Петрарке и Данте) скоро отправится Пушкин. К нему перейдёт многое от итальянской “оптики” старшего поэта. Даже словосочетание “суровый Дант” он заимствует у Батюшкова.
Батюшков мог бы взяться за переводы любимых итальянцев – за годы жизни мысли об этом не оставляли его. Подобно Гнедичу и его Гомеру он мог бы стать творцом “русского Тассо” или Аристо. Но для этого надо быть Гнедичем. У Батюшкова другое дыхание и темперамент. Он не способен к многолетнему творческому усилию на едином поприще. Он не ремесленник. Его дар подвижен, а муза ветрена – как и положено лирику. Отрывка, даже одной строфы ему будет достаточно, чтобы воскресить любимого поэта. Точно так же и Пушкин, блестяще переложив фрагмент “Неистового Орландо”, передаёт дух поэмы Ариосто.
Батюшков и в самом деле жил Италией, не живя в ней, и мог вслед Петрарке называть её “Italia mia”. “Под небом сладостным Италии моей…” То, как блестяще он знал её литературу, видно ещё и по письмам, пересыпанным итальянскими цитатами, – и по точности, уместности цитирования. Это видно и по книге “Пантеон итальянской словесности”, которую вслед “Опытам” Батюшков хотел предложить для издания Гнедичу. Подобная антология могла бы стать первым путеводителем и учебником по классической итальянской словесности. Но она не появится на свет тоже.
Переменчивый во многом, Батюшков будет верен себе в одном, он будет брать своё там, где увидит своё. “Чужое” всегда будет его “сокровищем”. И если сейчас, в Италии, он видит “своё” у Байрона – у него он и заимствует. “Ты просыпаешься, о Байя, из гробницы” перекликается со многими мыслями Байрона из финальной главы “Паломничества”. Однако из сотен строф этой поэмы Батюшков отберёт для перевода только одну – и по канве оригинала создаст ещё один шедевр[67]. Это будет и перевод, и замечательное русское стихотворение, в котором Батюшков преклоняет голову перед Природой, ведь это она – а не Время! – истинное зеркало Творца. Поэт как бы примиряется с тем, с чем поэту примириться всего труднее: что возможности твоего поэтического дара не безграничны; что есть области жизни, неподвластные лире; и что нужно иметь мудрость и мужество, чтобы признаться в этом. Горькая и вместе с тем возвышающая, просветляющая – эта истина тоже станет итальянским “приобретением” Батюшкова. Замечательно, что основную мысль стихотворения он выскажет ещё в письме Жуковскому.
* * *
Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов
И как молчать об них – не знаю.
CLXXVIII
There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society where none intrudes,
By the deep Sea, and music in its roar:
I love not Man the less, but Nature more,
From these our interviews, in which I steal
From all I may be, or have been before,
To mingle with the Universe, and feel
What I can ne’er express, yet cannot all conceal.
6.
Я не в Неаполе, а на острове Искья, в виду Неаполя; купаюсь в минеральных водах, которые сильнее Липецких; пью минеральные воды, дышу волканическим воздухом, питаюсь смоквами, пекусь на солнце, прогуливаюсь под виноградными аллеями (или омеками) при веянии африканского ветра и, что всего лучше, наслаждаюсь великолепнейшим зрелищем в мире: предо мною в отдалении Сорренто – колыбель того человека, которому я обязан лучшими наслаждениями в жизни; потом Везувий, который ночью извергает тихое пламя, подобное факелу; высоты Неаполя, увенчанные замками; потом Кумы, где странствовал Эней, или Вергилий; Байя, теперь печальная, некогда роскошная; Мизена, Поццуоли и в конце горизонта