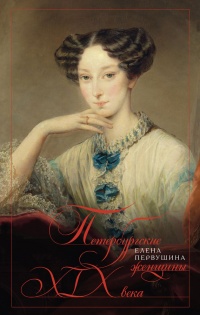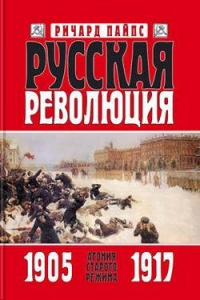то же:
— Господи... не оставь детей... Господи... не оставь детей...
Щелкнул замок пулемета, и Элма обхватила плечи причитающей женщины. Они стояли рядом, боком к пулемету, и Элма все крепче прижимала женщину к себе. Рядом с ними девушка шептала благословение господне.
У пулеметчика заело ленту, и он все возился с ней, пытаясь наладить. Долго у него ничего не получалось, потому что он захмелел немного. Ему дали в госпитале спирта. Любитель выпить, он пустился на хитрость: изобразил из себя слишком чувствительного, ну, ему и выдали порцию — для храбрости. Офицер недовольно крикнул ему что-то. Солдаты разглядывали женщин, стараясь напускной грубостью и презрением прогнать шевелящуюся где-то в глубине души жалость и ужас.
Элма повернулась к пулемету спиной и горячо обняла женщину:
— Успокойтесь... не надо...
Она сказала это торопливо, захлебываясь, и обнимала женщину, заслоняя ее собой и поддерживая, но когда сзади бешено залаял пулемет и она услышала крики и шмяканье падающих тел, она ухватилась за нее, как ребенок. Так они и рухнули вместе, не разжав судорожных объятий.
Потом сознание вновь стало возвращаться к ней. Перед глазами забрезжил красноватый свет и чувствовалась непонятная боль во всем теле. Потом все угасло. Это произошло в тот момент, когда солдат выстрелил ей в голову для верности, прежде чем сбросить тело в илистый ров.
V
Аксели мог уже двигаться. Но двигаться-то почти не представлялось возможности. Камера была неизменно полна, хотя народ в ней менялся. Казни производились, по-видимому, без всякого порядка, так как приведенного в камеру на склоне дня могли в тот же вечер и увести, а он вот валялся здесь уже много дней. Он всецело сосредоточился на ожидании смерти, и часто даже она казалась ему желанной из-за мучительной жажды и голода. Воды давали когда придется, и то очень скупо. Раз в день приносили миску вонючей бурды с маленьким кусочком отмоченной в щелоке трески и с неопределенным привкусом какого-то разваренного корнеплода. От него песок скрипел на зубах. Раз в несколько дней выдавали по кусочку горького хлеба с высевками, от которого в небо и в десны впивались занозы. Вместо трески бывала иногда ржавая салака или кусок селедки. Они вызывали жажду. Это была не такая жажда, какую он испытывал, работая в жаркий день на поле, это была жгучая, нестерпимая боль во рту, в глотке, во всем распаленном теле.
У него теперь было свое постоянное место — в углу, на бетонном полу камеры. Кто побыл здесь с ним подольше, те уже не приставали к нему. Они уже понимали, что этот молчаливо глядящий в одну точку человек хочет быть один.
Время от времени приходилось переворачиваться с боку на бок, потому что даже едва заметная неровность в цементном полу острой болью отдавалась в его костях. Иногда Аксели подносил руку к струящимся сквозь щели забитого окна лучам света. Суставы стали шишковатыми. Кости и сухожилия запястья явственно проступали под сморщенной, дряблой кожей.
Он не видел своего заросшего бородой лица, с высохшими, ввалившимися щеками, своих глубоко запавших глаз, но, глядя на других, он примерно представлял себе и свой собственный вид.
У него, как и у многих здесь, был кровавый понос. Первое время он не мог двигаться без посторонней помощи, и товарищи по камере помогали ему добраться до бочки, носили чуть ли не на руках. Но как только стал немного приходить в себя, он отказался от всех дружеских услуг. Чувствуя приближение приступа, он начинал вставать. Медленно становился на четвереньки, затем на колени и, мучительно напрягая все силы, поднимался во весь рост, держась за стену. И дальше, медленно переступая, он скользил как тень к бочке, стоявшей у двери.
Кто-нибудь делал движение навстречу,
— Я поддержу тебя.
— Не... сам управлюсь.
Ответ его звучал едва слышно, но настолько твердо, что каждый понимал с первого раза. Аксели не желал принимать помощи, чтобы потом никого не выслушивать. Многие, охваченные страхом смерти, пытались в ком-то найти опору. Они чувствовали в этом хмуром, молчаливом человеке огромную внутреннюю силу и потому искали его общества. Но он хотел быть один. Молча лежал он в своем углу. В полутемной камере то слышался чей-то шепот, то приглушенный плач. Время от времени дверь распахивалась и в камеру вталкивали новых людей. Они всегда приносили с собой лишний шум, говор и часто были самыми страдающими. Но постепенно бедственное положение подавляло их все больше, погружая в молчаливую апатию.
Шепотом передавали друг другу всякие слухи, которые приносили новички.
— Англичане сказали, что если эти расстрелы не прекратятся, то они пришлют свой флот и Хельсинки с землей сравняют... Америка ни в жисть не даст хлеба, если и дальше будут убивать людей без разбора и без суда...
Когда с такими разговорами лезли к Аксели, он не на шутку сердился. Он хотел остаться один в своем мрачном пустынном мире, наедине со смертью. Слухи подрывали постройку, которую он в муках и горе воздвиг для себя камень за камнем. Это здание было неприветливо и угрюмо, но, глядя на него, он чувствовал в душе успокоение. Иногда товарищи по камере слышали, что он начинал беспокойно дышать. Он быстрее обычного ворочался с боку на бок и при этом у него невольно вырывался слабый стон.
Никто, правда, особенного внимания на это не обращал, так как почти ничего и не было заметно. Но в такие минуты в душе Аксели его мрачная постройка вдруг теряла свои очертания и на ее месте возникала другая картина: по воскресному убранная изба с половичками, с солнечными зайчиками и с белой скатертью на столе. На Элине — лучшее платье, а на ребятах — после вчерашней бани — чистые белые рубахи. Они не хотели надевать курточки, потому что мама сделала им из материи подтяжки. Ручонки свои они важно держали в боковых прорезах штанов: настоящих карманов у них еще не было.
Сидевший рядом товарищ по камере видел, как у Аксели поджимался подбородок, скулы напрягались, а блестевшие на дне темных провалов глаза плотно зажмуривались.
После суровых и мучительных волевых усилий картина исчезала. И вновь появлялась черная, недвижная и мрачная величественная пустыня.
Когда вечером распахивалась дверь, в камере сразу вспыхивал настороженный гомон, но тут же все разом затихали, когда в светлом проеме двери появлялся офицер с бумагой в руке:
— Следующим выйти в коридор...
Имена падали в напряженную тишину. Офицер, казалось, наслаждался холодной, вымуштрованной официальностью своего