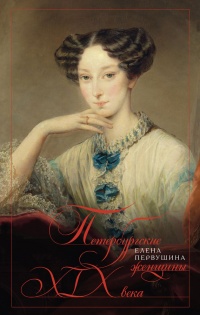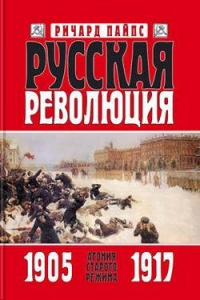сидели, поджав под себя ноги, не смея двигаться. Потому что никто толком не знал, что дозволяется, а что нет. И, кроме того, стражники все время придумывали всяческие придирки. Малейшее нарушение порядка каралось расстрелом, и «за пятой» постоянно гремели пулеметные очереди и ружейные залпы, нагоняя ужас на всех. Но Элиас быстро освоился.
В первый же день он успел узнать, что можно делать, а чего нельзя. Он смело расхаживал всюду и все высматривал, а если надо было, то умел и разыграть смиренную покорность.
— Господин солдат, нельзя ли пройти во двор той казармы?
— Вообще-то не дозволено... но уж, ладно, иди.
Он шнырял в толпе пленных, расспрашивал, приглядывался. Он умудрялся украсть у одного охранника табак и сменять его у другого на хлеб. И возвращался с похода, пряча хлеб под полой пиджака. Тем временем Лаури следил, чтобы Валенти не ушел куда-нибудь, потому что тому от слабости могло что угодно прийти в голову.
Однажды, подойдя к самой колючей проволоке, Элиас увидел Ауне по ту сторону ограды.
— Ауне!
— Господи... неужели Элиас?
— Да, я.
— Кошмар, какой ты грязный и худой...
— А где же ты?
— В женской казарме. Но я хожу убирать комнату к одному унтеру из Пори.
— Достала бы немного хлеба... Валенти очень плох.
— Я попрошу своего унтера... может, он даст. Он ужасно симпатичный... Он господин...
Они договорились, когда и где встретятся. Ауне не могла войти в их двор, но она передаст хлеб через проволоку. Ауне рассказала об Элме. Они с ней в одной казарме, но в разных помещениях.
— Я ее видела как-то... Но она совсем ничего не говорит... Все убивается об Акусти и о своих.
Показался стражник, и они разошлись.
Какой-то старый холостяк фельдфебель действительно выбрал Ауне себе в уборщицы. Жил он на квартире, вне лагеря, и Ауне получила записку, служившую пропуском. В маленькой комнатке фельдфебеля собственно и убирать-то было нечего, но старый холостяк только посмеивался довольно, так как война внесла изменения и в его устоявшиеся привычки. Сперва он дал ей немного привыкнуть. Убрав в комнате, Ауне отходила к двери.
— Так, вроде, ничего?
— Да, хорошо... Разве вон там еще немножко.
Ауне поправляла еще какую-то мелочь.
— Теперь еще одеяло на кровати...
Тут, наконец, он уже ущипнул ее.
— Тх-и... х-х-и-и... какой вы ужасный...
Ауне закрыла лицо руками.
— ...а-а-хх...
Она не разыгрывала неприступность, но все же, как ни скуп был фельдфебель, он ничего не добился, пока не пообещал хлеба.
— Нет, я не... я еще ужасно слаба... так мало кормят...
— Конечно, я тут немного...
— У меня еще и брат в лагере, чем только жив... Я не могу и подумать...
На лбу у фельдфебеля выступила испарина, взгляд затуманился и — прощай пуританское прошлое принципиально экономного старого холостяка.
— ...он был в Америке... он вообще американский гражданин... и никаким красным он вовсе не был... он просто беженец... тх-хи-и... нельзя... я ужасно боюсь щекотки... он вовсе даже мещанин...
Фельдфебель уже не слушал ее слов, хотя она шептала ему в самое ухо:
— ...он такой деликатный... такой американец... у него характер такой...
Валенти немножко окреп от хлебной добавки. Но через несколько дней добавка эта уменьшилась, а затем и вовсе прекратилась. Фельдфебель одумался и вспомнил о том, что он здесь властен распоряжаться жизнью и смертью людей. К тому же Ауне слишком интересовалась биноклем и другими вещами, в отношении которых фельдфебель проявлял ревнивую заботливость. Когда Ауне спросила, нельзя ли посмотреть в бинокль, на лице фельдфебеля появилось выражение недовольства. Он все же поднес бинокль к ее глазам, но не выпустил его из своих рук.
— Все делает ужасно забавным... так — увеличивает, а так — уменьшает.
Он буркнул что-то и потом каждый раз после ее ухода тщательно проверял вещи. И даже, осторожно покосившись в окно, пересчитывал деньги.
Ауне с обидой сказала Элиасу:
— К нему раза два уже заходила девчонка одна, из Котки... И ведь — ни кожи, ни рожи... Хотя мне-то что... но какие ужасные люди... за кусок хлеба готовы...
Элиас все озирался по сторонам, опасаясь стражника.
— Ты слишком-то много с него не требуй... попроси иногда, между прочим...
Исхудавшее грязное лицо Элиаса стало вдруг мрачно-серьезным:
— ...проси у таких солдат, которые на женщин поглядывают, но не говори им ничего... Они ведь большинство с севера, из такой лесной глуши... они не понимают положения...
На другой день Ауне принесла кусок хлеба с ломтиком поджаренного сыра. Но была она сама не своя и в глазах стояли слезы.
— Элму увели в отдельную камеру... пришли и вызвали ее по имени... наверно, из дому имя-то сообщили... Из той камеры они всегда выводят...
Элиас схватил гостинец, второпях пробормотал что-то, и скрылся в толпе пленных, пугливо озираясь.
Элма сидела на бетонном полу, прислонясь к стене. Ее только что привели сюда с гауптвахты, после полевого суда. Сама-то она даже и не знала, что это был полевой суд, потому что у нее там спросили только имя, возраст, место рождения — и больше ничего. После этого ее сразу отослали сюда, в большую комнату, где было много женщин, которые сидели и плакали. Почти все — молодые девчата, но среди них были и женщины постарше.
Дверь отворилась, и в помещение вошел седой старичок в штатском. У него были очки на носу, и сквозь них он смотрел на женщин, моргая глазами.
— Не хотите ли послушать слово божие?
Он сказал это добрым, дружеским голосом, но, несмотря на такую любезность, раздались крики отчаяния:
— Господи боже!.. Неужто нас расстреливать поведут?..
Какая-то девушка забилась маленьким комочком в угол.
— Не я решаю это дело, но меня по моей просьбе допустили сюда, чтобы сказать вам несколько слов. И если вам угодно...
Женщины затихли, и священник понял это как знак согласия.
— Давайте споем что-нибудь.
Священник начал знакомую духовную песнь, и вскоре многие женские голоса, всхлипывая, стали подпевать. Элма помнила из песни лишь отдельные строки, и в знакомых местах она тоже подтягивала. Лицо пылало, и было приятно прижаться горячей щекой к прохладной каменной стене. На площади Феллмана, забившись под телегу, она выплакала все слезы. Под конец она уже только грызла свой платок, потому что слез больше не было. Когда их привели в казарму, она в общем непривычном шуме как-то даже успокоилась. Лишь по ночам,