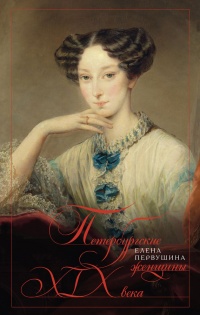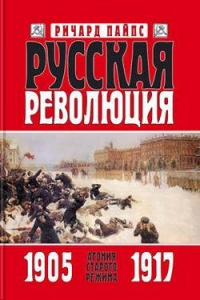Не нервничай.
Мы коней поили из Невы-реки,
Переплыли Вислу славные полки.
Мы дошли до Рейна, мщением горя.
Из Дуная пили здравье короля.
Парень кончил песню и сказал с печальным вздохом:
— Я был в Турку боевым парнем, черт побери. Откалывали номера с ребятами... Что же они, дьяволы, не дают воды...
Он ударил ногой в дверь.
— Не морите жаждой, сволочи!.. Начальство же обещало нам расстрел.
Никто по ту сторону двери не отозвался на его стук, и он вернулся на прежнее место.
— Мне все равно... Но могла бы сестренка принести передачу, чтоб в последний раз поесть.
Он замолчал и долго сидел у стены, задумавшись, но потом снова его точно прорвало. Очевидно, ему надо было высказать все мысли вслух, прежде чем он мог начать их обдумывать:
— Лысый спрашивает, застрелил ли я этого господина... Я говорю — нет... Я подумал: не буду вам, чертям, ничего говорить... Ну и дали же мне в морду так, что звон пошел. Но я доволен тем — и я скажу это хоть на краю могилы,— что я этого ирода застрелил... Я спросил его: теперь дашь работу?.. Не будем, говорит, старое вспоминать... Почему же, говорю, не такое уж оно старое... Выгнал отца с работы за то, что в товариществе состоял... и сестру тоже, а меня на работу не принял... Ведь ты, Реунанен, говорит, у меня на фабрике с детства, был даже в фабричном детском хоре... Подольститься пытался... Да, был, говорю, и сейчас я неплохо пою... это многие подтверждают. Но пулю я в него всадил... Это верно, я мальцом пел у него в хоре... Получили от фабрики нарядные передники... мальчикам и девчонкам выдали одинаковые... Ну, и пели мы... У меня был звонкий голос. И правда, красивые были песни:
О финн, прекрасную свою
отчизну не покинь!
Знай, горек хлеб в чужом краю
и слово — как полынь!
Допев песню, парень снова начал колотить ногами в дверь.
— Воды, дьяволы!.. Конечно же, слышат, косматые черти из Кайну, слышат, проклятые, но нарочно не откликаются...
Он снова сел на прежнее место и начал думать вслух:
— Если бы сестра знала, она бы принесла передачу... Если они и ее не убили... Она была в Красном Кресте, а они расстреливают всех женщин из Красного Креста... и всех мужчин с низким лбом... Они писали в своей газете, что всех красных женщин надо расстрелять, чтобы не нарожали новых волчат... А всех низколобых надо расстреливать, так как они хулиганы... Будь сестра жива, она бы принесла, конечно... До остальных мне дела нет... а сестру я хотел бы еще увидеть... Воды, косматые черти... Человек просит воды...
Аксели жалобно просил пить. Распухший язык с трудом ворочался в клейкой кровавой гуще рта. Безобразно раздувшиеся губы горели. В зудящие десны вонзались, как занозы, остюки, оставшиеся от тюремного хлеба.
Пробивающийся между досок солнечный луч медленно скользил по стене. По нему люди пытались угадать время, и чем дальше уходило солнце, тем беспокойнее становились обитатели камеры. Только Реунанен казался все более разговорчивым и веселым.
Дверь отворилась. Заключенные зашевелились. Кто-то пытался забиться в дальний угол, спрятаться за чью-то спину.
Увели обеих женщин, Реунанена и пожилого человека, плакавшего о своих восьмерых детях. Девушка упиралась, хваталась за косяк двери, плача и вскрикивая, как от боли. Солдат схватил ее за косу и одним рывком выволок в коридор. Реунанен в дверях обернулся, поднял руку и заговорил. Голос его звучал раскатисто и гулко:
— Привет, друзья... Вы не услышите, как я на краю рва запою песню... Но выстрелы вы услышите. Так скажите тогда, что певучий парень отправился... А если увидите кого-нибудь, кто знал Реунанена Ялли, скажите, что последним его желанием было, чтоб спели на его могиле песню: «Не плачь, моя мама, не плачь, дорогая...» Бывайте здоровы, ребята.
Дверь закрыли, и в коридоре послышался голос Реунанена:
— Ну, не толкай меня, косматый черт.
Затем посыпались удары.
Аксели смог уже сам повернуться обратно лицом к стене. Опять перед его глазами встала та же надпись: «...и три сына — Хейкки, Матти и Лаури...» Он тихо застонал от боли и в то же время от мучительного предчувствия того, что мысль о доме и о сыновьях была бы сейчас худшей пыткой.
Через полчаса в камеру втолкнули новых осужденных.
IV
Казармы Хеннала были построены на краю лесного пастбища, на глинистом поле. Строили их русские да не-достроили. Так они и остались полуготовыми, мрачные здания из красного кирпича, и все пространство вокруг них было запущенным и диким. Вокруг казарм поставили заборы из колючей проволоки, и туда согнали пленных с площади Феллмана, со двора литейного завода, из школ и из других мест.
Многие падали от слабости, уже когда шли сюда, потому что в местах сбора им пришлось обходиться той едой, какая имелась у них с собой. Их разделили на группы, каждому на спине нарисовали краской знак и нашили ярлык с номером, и все время по лагерю ходили представители разных приходов, приехавшие издалека затем, чтобы найти и опознать нужных им людей:
— Вот этот.
Если приезжие не забирали опознанного человека, то местные солдаты уводили его «за пятую», где уже была на болоте готовая яма, из которой окрестные крестьяне брали болотный ил — перегной для удобрения своих полей.
Пентинкулмовцы попали в одну казарму. Только женщин поместили отдельно. Большие залы казармы были разделены дощатыми перегородками на маленькие комнатки-клетушки, в которые набивали столько людей, что лежать на полу можно было только по очереди. Первые дни в этих клетушках заключенным приходилось жить вообще без еды. Те, кто был ранен или ослаблен болезнью, умирали дня через два. Стоял человек и, вдруг обмякнув, падал под ноги товарищей. Мертвое тело выволакивали в коридор, а там их собирали и вывозили по нескольку за раз. Жар у Валенти прошел, но он был еще так слаб, что товарищи разрешили ему лежать все время. Он лежал, растянувшись на бетонном полу, страшно худой и грязный, и все разглагольствовал, за что получил прозвище «Янки».
Когда их стали днем выпускать во двор, Валенти начал поправляться — и от свежего воздуха и от лишних кусков съестного, которые Элиас умудрялся добывать для него. Во дворе пленные чаще всего