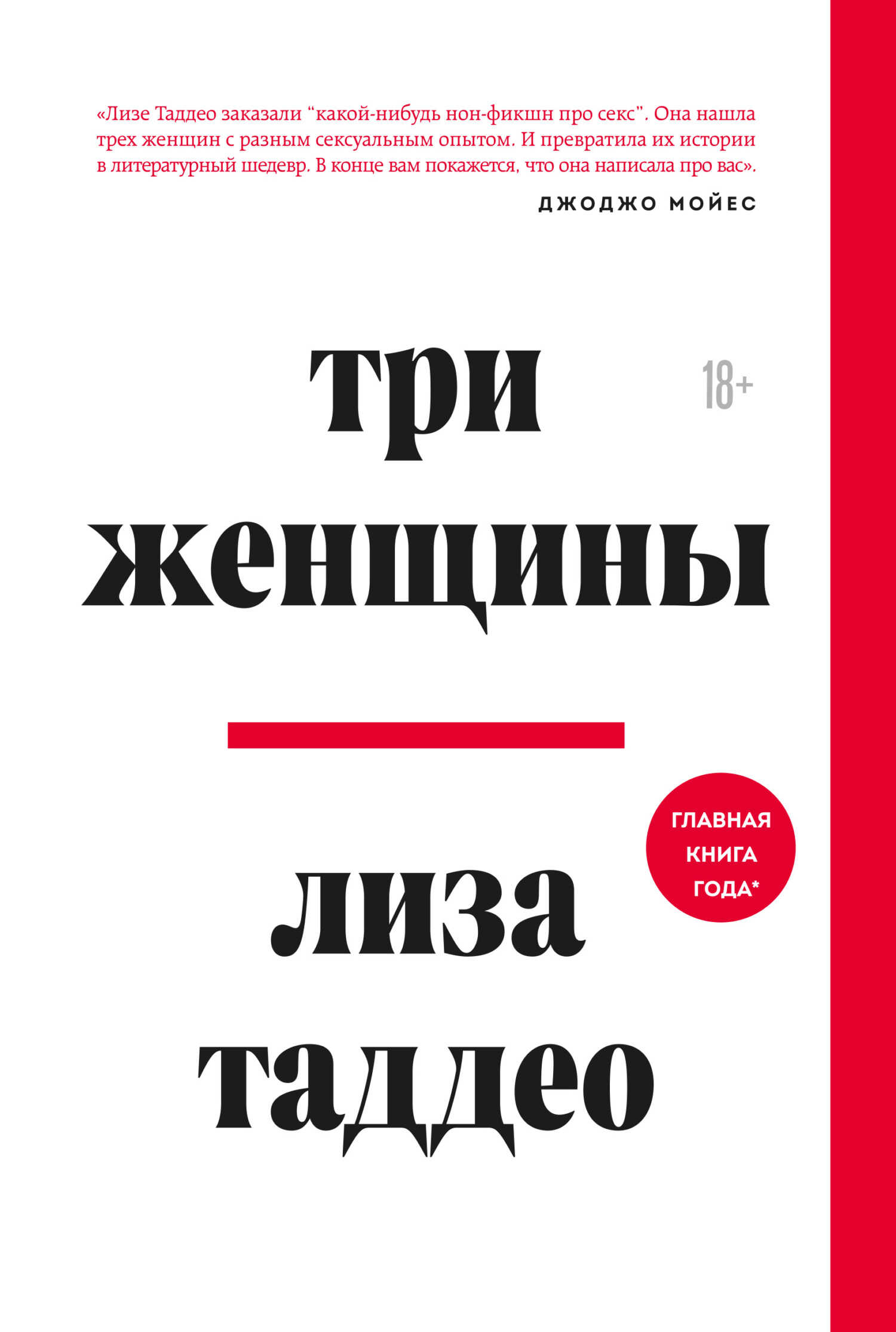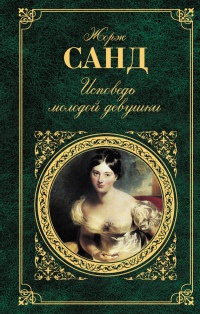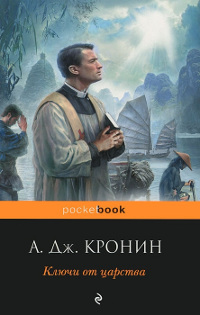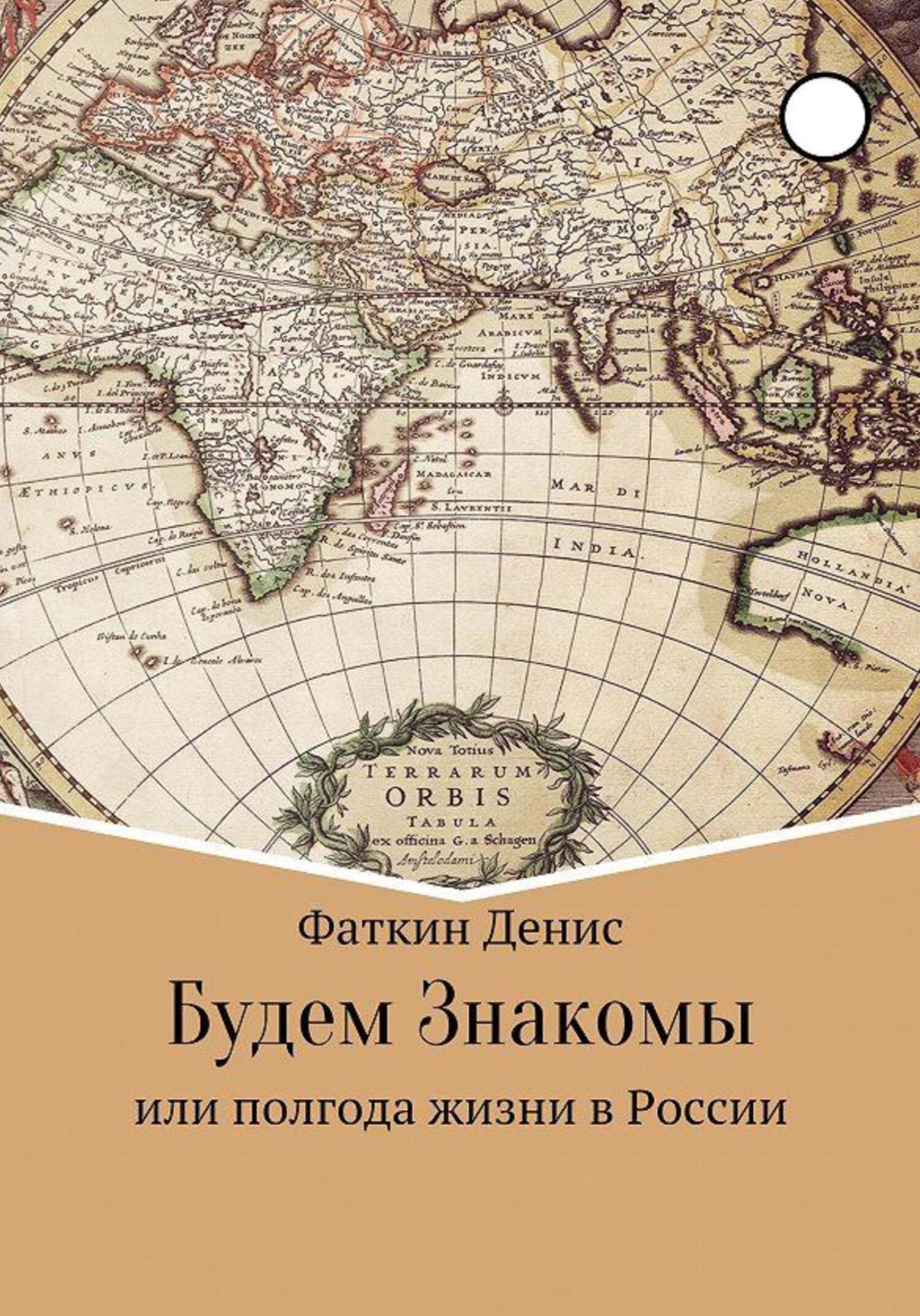и вместе с тем страшное лицо умершей женщины; ночь сразу обращается в день, холодный трепет — в безумный смех, как будто ничего не было, ведь острый восторг едва ли отличим от какого‑либо состояния.
(«Метод медитации, Нагота», 1946–1947)
***
Я намечаю перед собой точку и представляю эту точку геометрическим местом всех возможных существований и единений, разлук и тоски, неутолимых желаний и смерти.
Я вступаю в эту точку и сокровенная любовь ко всему, что в ней находится, испепеляет меня, заставляя отказаться от самой жизни ради чего‑то другого, кроме этой точки, ради этой точки, которая, являясь разом жизнью и смертью любимого существа, приобретает характерное сияние.
(«Практика радости перед лицом смерти», 1939)
Лаура
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕВОЧКИ
Печальная привилегия
или
Сказочная жизнь
Детские глаза пронзают ночь.
Сомнамбула в длинной белой рубашке озаряет темный угол, где, бормоча во сне, она преклоняет колена перед распятием и Девой Марией. Стены увешены благочестивыми образами, спящая самозабвенно отдается всевозможным коленопреклонениям, после чего юркает под одеяло. Предоставленная не столь реальным призракам, облеченным всей властью и надо мной, моя спальня снова погружается в тягостную неподвижность преждевременного кошмара.
Ужас, славно ветер на море, гуляет по комнате. Согбенная старуха грозит мне палкой, какой‑то человек, ставший невидимкой благодаря волшебному кольцу, не отстает от меня ни на шаг. Бог, «который все видит и все знает», взирает на меня, сама суровость. От окна отделяется белая занавеска, колыхаясь во мраке, приближается и уносит меня: я мягко пролетаю сквозь оконное стекло и взмываю в небо…
В темноте появляются, мерцают мириады светящихся точек, они кружат хороводом, отдаляются от ночника и роятся надо мной. На вещи садится тончайшая радужная пыль, разноцветные капельки сливаются друг с другом. Текучие, переливающиеся всеми цветами радуги конусы, круги, прямоугольники, текучие светящиеся пирамиды, азбуки форм и цветов, солнечная призма, небеса моих заплаканных глаз; фосфены кружат хороводом… кровать мерно качается на волнах грез.
А дни, сменявшие такие вот ночи, были гнусным, запуганным детством, в котором царили страх смертного греха, Страстная пятница и первый день поста. Детством, раздавленным тяжелыми траурными покрывалами, детством, кравшим детей.
Не все еще сказано, нет. Преступные руки вцепились в колесо судьбы: многие так там и остаются, сильные новорожденные, задушенные пуповиной, а ведь… «они только одного хотели — жить».
Вслушайтесь, ночь полна детских криков — долгих душераздирающих криков, прерываемые стуком резко захлопнутого окна, отрывистых и протяжных криков, захлебывающихся от удушья и умирающих на детских губах, пронзительный зов, брошенные в вечную пустоту мужские или женские имена, злорадный смех, обрушивающийся каскадом презрения, расплывчатые жалобы, мужеподобный писк новорожденного. Все эти крики, смешиваясь на лету с осенними листьями, поднимаются над садом, словно запах росы, прелости или скошенного сена.
То был истинно парижский сад, где я нашла себе укрытие. Из‑за бересклета выходит совершенно бледный мужчина, останавливается, кланяется, пожимает кому‑то руку в пустоте и медленно идет дальше, снова останавливается, кланяется, пожимает несуществующую руку, и уходит, осторожно ступая по белому щебню и не заходя на газон… Вдруг появляется другой, с пылающим лицом, воспаленными губами, он заметил меня, увидел это убежище в углублении стены, скрытое ужасными зарослями фуксий. Кругом плющ, копоть, растерзанные пальцами бегонии и расчерченные мелом «классики». Сделав непристойный жест, мужчина приближается, но у меня есть множество хитрых уловок, и вот уже другой вылезает в окно, в исступлении, размахивая руками, словно мельница, на губах выступает пена: «они меня обокрали, мерзавцы», его усмиряют. Теперь появляется женщина. Сложив руки под подбородком, она рвется вперед всем своим телом, бесформенным, оплывшим, обрюзглым, завладевшие ею видения навевают на нее подобие улыбки, которая тотчас застывает, поскольку наверху появляется мертвенно–бледное лицо, которое пытается протиснуться сквозь прутья клетки, сначала напрямую, затем боком, но все напрасно, после чего из окна свешивается белая исхудавшая рука и тихонько раскачивается до самого вечера, словно белье на ветру.
Лживая, улыбчивая свора (родственники и доктора) кружит вокруг братской могилы в саду дома умалишенных, саду моего детства.
Жалкие смешные существа, их страдания, что дают о себе знать, оттого что были слишком возмутительными, страдания побежденные, бессильные, идиотские. Послушайте их: а-б-в-г-д я разучился говорить, 1-2-3-4-5 я разучился считать.
Какое вам дело до деревенского юродивого или местной сумасшедшей? Продажная совесть, перебитый хребет — и таких полным–полно на улицах, разве нет? А еще другие существа, которым уготована близкая смерть или лучшая доля, не сегодня–завтра они сгинут на базарах, в портах, в скверах, под мостами.
Живые обломки всевозможных крушений — нищета или отчаяние — потрясенные обретают друг друга на крошащихся кромках набережных. Потрясенные, увидев друг друга лицом к лицу, в своей человечности, и раз уж взгляды скрестились, происходит обмен банальностями, избитыми словами, не имеющими никакого смысла и полными значения. Лишь им одним, вернувшимся издалека, дано так говорить… о пустяках. И кажется, что в ответ на звук этих голосов сама земля становится тверже под ногами. Река несет мутные воды, распространяет зловонный смрад. Над мостами город, за городом — поля. А в городе и в полях — зыбучее море человеческих взглядов.
Нет ни одного, который не скрывал бы какой‑нибудь тайны, какой‑нибудь истории, то есть ответ, призыв, объяснение. Светлые, чистейшей воды взгляды, в глубине которых мутнеют какие‑то пятна и нити: водоросли и человеческие останки. Взгляды чудовищные, мрачные и гноящиеся, иные немые, другие мечтательные, взгляды, что умеют ненавидеть и презирать, взгляды влюбленные и доверительные, взгляды, сквозь которые проглядывает какая‑то цель, какая‑то воля, взгляды, что утоплены желанием в крови. Все эти взгляды я разглядела сквозь один; в настойчивом и потерянном в мертвенной бледности оголодавшего человека взгляде, который, казалось, требовал отчета у всех слабых мира сего, у всех на свете побежденных.
— Я обитала не в жизни, а в смерти. Сколько себя помню, передо мной все время вставали мертвецы: «Напрасно ты отворачиваешься, прячешься, отрекаешься… ты в кругу семьи, и сегодня вечером будешь с нами». Мертвецы вели ласковые, любезные или сардонические речи, а порой, в подражании Христу, этому извечно униженному и оскорбленному, нездоровому палачу… они открывали мне свои объятья.
Я шла с запада на восток, из одной страны в другую, из города в город — и все время между могил. Земля уходила из‑под ног — поросшая травой или вымощенная — я висела между небом и землей, потолком и полом. Мои больные глаза вывернулись к миру волокнистыми зеницами, руки, повиснув культями, влачили