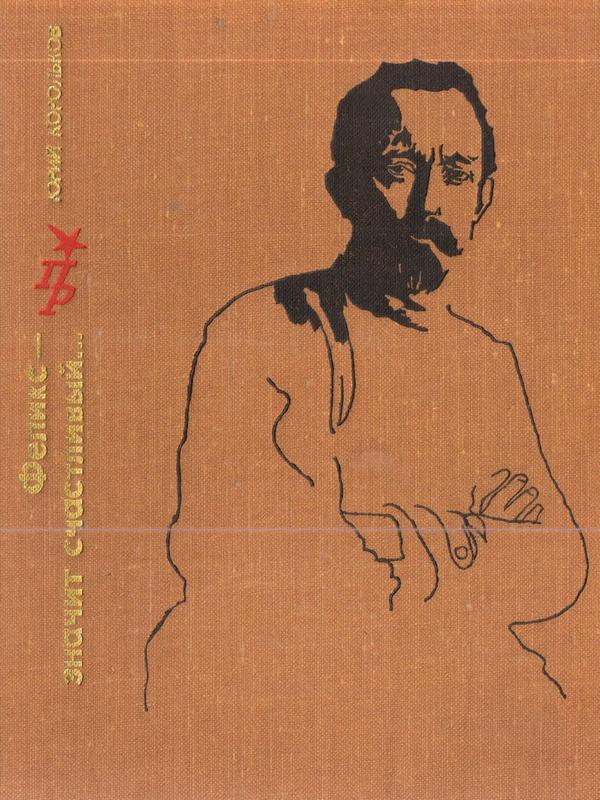В моем положении и деньги — звук пустой, а уж мораль — тем паче. Ты меня не за честность ли явился агитировать? Может, мне добровольно удалиться, а тебя в очередь на мое место? Не бывать этому! Быть честным меня в этот раз и не проси, не буду. Вступить на стезю подлости, а что ты мыслишь — дело неважнеющее. Но все ж вникни умом, отчего я хочу в подлецы податься? Не я этого желаю, этого от меня жизнь востребовала. Житье. Человек — раб жизни, она его в соблазн вводит, подкараулит — и в полон… И человек тащится за телегой жизни пятым колесом, а то и моськой крутится, подмазываться начинает, приспосабливаться, бить поклоны, дарить подарочки, только б, скажем так, умаслить. Жизнь — не объять, не определить, слова — беспомощны, вздор, колебание воздуха и только, жизни не до того: петлю на шею и хочешь — живи, хочешь — вешайся, дело хозяйское. Вот, Палиев, жестокая правда. Ни одна живая душа не спешит это признать, каждый хочет быть хозяином жизни, а ей что, ей все нипочем. Хочет, путь направит прямо, хочет — сторонкой, рушит, и созидает, и бьет навылет. И так до скончания века… И честности моей — грош цена. За нее и спасибо-то не скажут. Некогда. Каждый обстряпывает свои делишки как разумеет, а с других-то честности ой как спросит. Ради бога, я сам, только получу квартиру, за порядочность горой встану, да так, что небу жарко будет, но до той поры благословенной меня не задевать! Тебя я не гоню, но и слушать не желаю, что ни проси, для всех я глух и слеп, — от напряжения руки Пенчева дрожали.
— А как насчет «Лады» для Баева? Слабо, сам понимаешь. На что надеешься? На всевышнего уповаешь? Свежо предание… Тогда уж и квартиру подожди от боженьки. А Баев тебе ее не даст…
— Нет, невозможно!
— Возможно. Вполне. И ты понимаешь, что так и произойдет.
Пенчев вскочил.
— Какого дьявола ты пришел? — На него было жалко смотреть. — По мою душу?
И Палиев понял, что приспело время выложить все без утайки.
— Угадал, я хочу, чтоб ты дал мне ее, душу, напрокат завтра с обеда…
— То есть как? — Ноги у текстильщика подкосились, и он плюхнулся на стул.
— То есть так. Завтра на партсобрании у нас в таксопарке я открыто, слышишь, Пенчев, открыто выступлю на борьбу против того молодца, который вышвырнул меня из списков, против Баева, который — с его подачи — все оформил. Борьба будет бескомпромиссной, и я верю, что поставлю этих двоих на место. Но я и тебе не спущу ничего, Пенчев. А пришел я, чтобы сказать: твое имя тоже будет фигурировать в протоколе собрания. Такой-то присутствовал при известной сделке и обещал устроить завжилотделом райисполкома гражданину Баеву автомобиль «Лада-1500» в обход общей очереди. Так что вероятнее всего-то получишь ты не ордер, а повестку к следователю. Но я пришел к тебе не затем, чтобы пугать. Ты все же честный человек, Пенчев, порядочный, и совесть твоя чиста, по мне ты — жертва. Потому я и хочу, чтобы завтра ты присутствовал на нашем собрании, ты человек со стороны и объективно засвидетельствуешь истину перед всеми. Ведь она существует безотносительно от того, что ты дошел до ручки и желаешь податься в подлецы, истина — безотносительна. И рано или поздно она проявится, и все станет на свои места. Без нее жизнь не была бы жизнью, а человек — человеком. Во имя истины ты и должен завтра прийти на собрание. Вот таким манером я взял бы напрокат твою душу, Пенчев. Ты поможешь не лично мне и даже не себе, — всем, кого судьба сталкивала или столкнет с мерзавцами типа Ицы или Баева. Вот чего хочу от тебя я.
— Это… Это ж произойдет столпотворение. А если не ты их, а они тебя? А если за ними стоят люди повыше и обелят их перед всеми инстанциями?
— Им нечем крыть.
— А вдруг?
— Если «вдруг», то только благодаря тебе и таким, как ты. Таким, которые молчат и делают вид, что ничего не замечают. Короче, придешь завтра на собрание или не придешь? Да или нет?
Пенчев под пристальным взглядом съежился и уронил голову на грудь.
— И знать не знаю, и ведать не ведаю, и сказать не скажу, а ты иди себе, мил человек, подобру-поздорову, — затараторил он, отмахиваясь от гостя как от призрака. — Уйди и не приходи больше. Поступай, как знаешь, шею ломать у меня охоты нет. А мое имя? Ну, вставишь ты его в протокол, и что? Иди, иди. Погоди-ка, ты как сюда пробрался, в такой туман? Неужели через поле? Уму непостижимо! Сийка, — позвал он.
— Что? — отозвался из-за стены все тот же дребезжащий женский голос.
— Я провожу товарища до остановки. Ты не закрывай, я скоро вернусь, — Пенчев засуетился, натянул пальто.
Ровным счетом через пять минут они оказались на маленькой станции.
— Вот и поезд из Драгомана прибывает, — Пенчев не умолкал, словно боясь того, что может еще сказать Иван. — Четыре минуты — и ты на Центральном вокзале. Куда там автобусу, а трамваю и подавно. Ты-то не знал, а поездом быстрее всего, у меня и расписание имеется. Идет, — он ткнул рукой в туман, откуда вырвался поезд. — Можно без билета, — Пенчеву не хватало дыхания, — всего и ехать-то четыре минуты. Ты опасный человек, ужасный человек, Палиев, мне и в голову не приходило, что ты такой…
Поезд стоял. Никто не сошел, никого не было видно на перроне, кроме этих двоих.
— Поднимайся, поднимайся, Палиев, — подтолкнул его к вагону Пенчев.
Тот вспрыгнул на подножку и хотел спросить еще раз, но не смог. Секунда — и силуэт Пенчева слился с туманом, а Иван устало сел в одном из незанятых купе и бездумно провел рукой по лицу…
X
Тот день стал памятным для всего таксопарка. Когда Палиев, бледный как полотно, и Крушев вошли в маленькую столовую, где было намечено собрание, иголку воткнуть было некуда. В другой бы раз нашлись охотники увильнуть, причин — дай боже, но сейчас Иван чувствовал, что все налицо, что ждали этого собрания с внутренним нетерпением. Палиев по-огляделся и сразу оценил обстановку. Работники постарше заняли один угол; помоложе, в первую очередь те, что любили полевачить, и, следовательно, симпатизировали Ице, сгрудились вокруг него, растревоженные и ощетинившиеся — сейчас решалась и их судьба, будут их терпеть или не будут. Лорд держался самоуверенно и надменно. Иван глянул на него краешком глаза — имелась у него такая привычка: перед решающим прыжком не