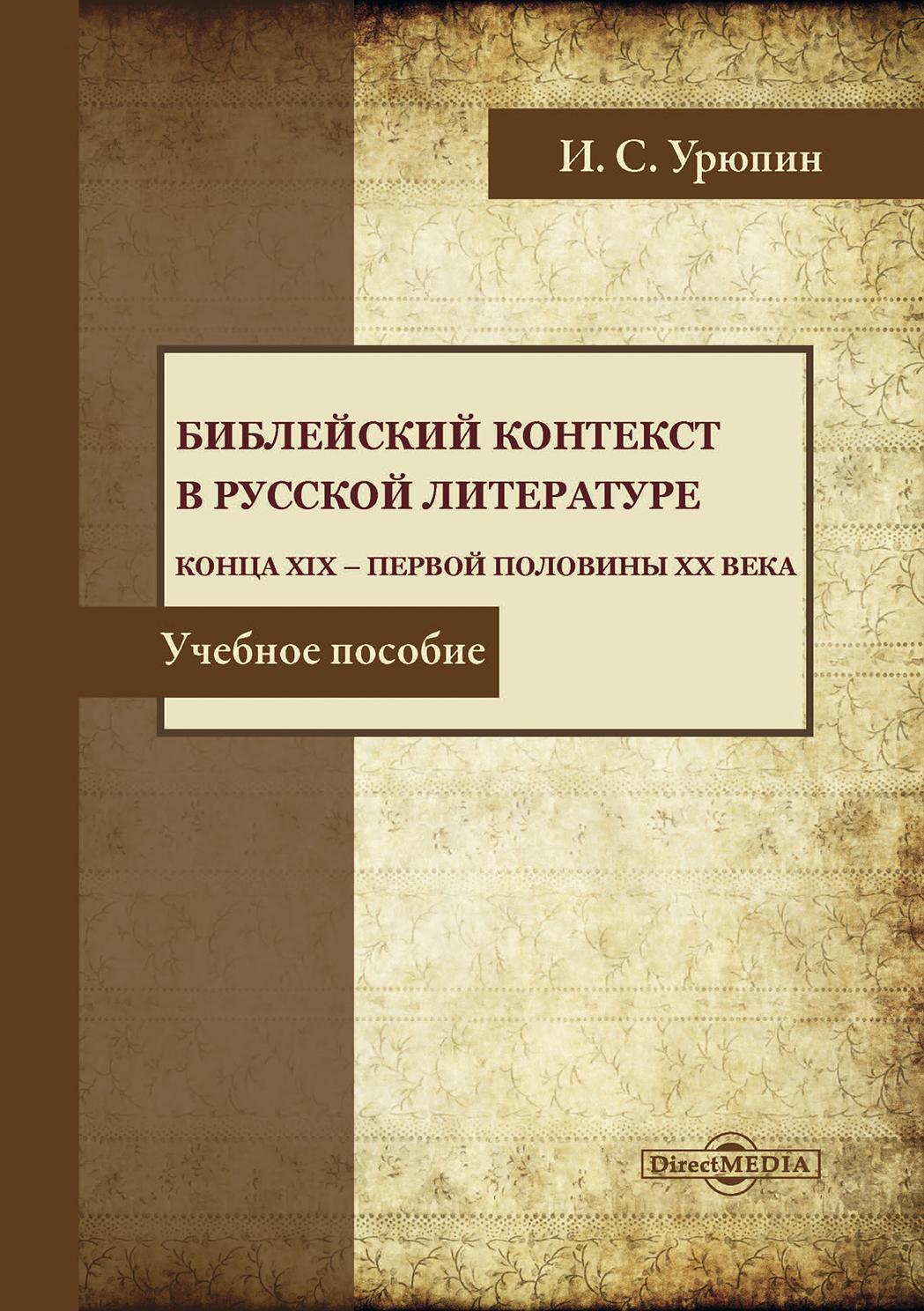случаях музыка выступает свидетельством социальных, исторических и психологических переживаний, завязанных на некую травму, но не представляет собой буквальный возврат к подавленному личному или коллективному воспоминанию. Мы можем сказать, что эти произведения участвуют в общественных дискурсах того времени о памяти и травмах и скорее наводят на вопросы и мысли о сущности страданий и воспоминаний, а не побуждают занять конкретную позицию. Художественные произведения в конечном счете становятся независимыми от контекста своего создания, поэтому каждая из рассматриваемых мной композиций ведет собственную общественную жизнь и используется людьми для интерпретации социальных реалий и реагирования на них. Описанная модель исполнительства, обосновывающая взаимодействие и обоюдное влияние реальной жизни и искусства, позволяет четко обозначить, как произведения, составляющие основное содержание моей книги, могут метафорически «отображать» психологические последствия травм и принимать участие в общественном дискурсе по проблематике культурных травм. Как бы заметили Шехнер и Тёрнер, исполнительство (и, на мой взгляд, в целом эстетические произведения) – это не только отражение неких исторических моментов, а важное средство, которое может помочь людям разобраться со сложившимися реалиями и выявить значение тех или иных проблем. Посредством исполнительства человек способен ввести в общественный дискурс для дальнейшего обсуждения и осмысления собственную интерпретацию событий.
В интеграции психологического, социологического и конструктивистского подходов к травмам проявляется многофункциональность музыки. Как и другие носители эстетических посылов, музыка может обращаться и озвучивать элементы личностных психологических переживаний. Фрагментация музыкальной фактуры в Концерте для фортепиано и струнного оркестра Шнитке представляется аналогией коллапса линейного нарратива, который нередко становится частью реакции человека на травму. Предсказуемые повторы в Симфонии № 3 Гурецкого формируют безопасное пространство, в котором человек может предаться скорби. В этом смысле симфония отвечает потребностям реабилитации после травмы, которую описывает Херман. В то же время музыка действует в культурном, социальном и даже политическом поле, находясь в определенной связи со временем и местом ее создания. Физическая боль, которую музыкант ощущает во время заучивания и исполнения Шестой сонаты для фортепиано Уствольской, напоминает о том, что боль была во многом лейтмотивом периода гласности. Музыка также допускает большую гибкость в интерпретации. Восприятие музыки, в том числе в журналистских работах, а также ее включение в те или иные концерты и саундтреки к фильмам обновляют контекст и преобразуют смысл произведения. В «Покаянии» композиция Пярта «Tabula Rasa» показывает, как музыка способна участвовать в процессе интерпретации культурной травмы, задавая смысл экранным образам страданий и определяя эмоциональное значение исторических воспоминаний, центральных для нарратива фильма. Одновременно отражая личные ментальные переживания и действуя в пределах социального дискурса, музыка, выступающая средством свидетельствования, может работать сразу в нескольких плоскостях: как собственно музыка во всех ее формальных, звуковых и исполнительских (в том числе физических) аспектах и как ее контекст и восприятие.
Музыка способна метафорически передавать психологические эффекты травмы: опустошающие последствия и явления, сопровождающие реабилитацию. Аргументацию я буду строить на теориях Карут и Фелман при одновременном обращении к более давней интеллектуальной традиции, которая представляет дезинтеграцию эстетических условностей в качестве риторического приема для раскрытия результатов травмы83. Некоторые из рассмотренных произведений также побуждают вспомнить о восприятии травмы в качестве «недуга времени». Обрывки воспоминаний воспроизводятся и составляются во фрагментарное, грешащее повторами настоящее, в котором рушится линейная граница между тем, что произошло, что происходит сейчас и что еще только должно произойти. Учитывая особое внимание исследователей травм к распаду представлений, я также буду анализировать, как музыка может метафорически выражать элементы реабилитации. Наконец, музыка зачастую взаимодействует с травмами на формальном уровне через такие приемы, как повторы, статичность, фрагментация, коллаж, телеология, диссонанс и дезинтеграция. В таких случаях музыка не обязательно выступает буквальным отображением травмы, а скорее служит свидетельством ее последствий, давая слушателям понять, как травмы могут влиять на воспоминания и восприятие времени.
Уделяя внимание формальным качествам музыки как средству свидетельствования по примеру Карут и Фелман, я тем не менее постараюсь избежать некоторых проблемных моментов, которые, на мой взгляд, присутствуют в подходах коллег. В частности, моя книга в некоторой степени ставит под вопрос главенство языковых средств в теориях травм84. Язык выступает основой и занимает почетное место как в терапии, так и в письменных источниках, особенно тогда, когда ученые стремятся выразить на бумаге идеи, почерпнутые из психоанализа и психологии. Многозначный термин «представления» то и дело фактически подменяет собой более узкую и часто не упоминаемую прямо категорию «линейный нарратив, выраженный языковыми средствами». Мой фокус на музыке создает возможность для осмысления в том числе иных выразительных средств. Концепт «культурной травмы» оказывается весьма полезным для музыковедческого исследования, поскольку позволяет апеллировать к синтетической природе эстетических произведений и одновременно ослабить примат языка, на котором зиждется значительная часть работ, посвященных проблематике травм. Александер и Айерман, оценивая обширный набор общественных площадок, называют культурную травму результатом социального дискурса в его самом полном выражении. Косвенно в этом утверждении содержится предположение о возможности выйти за пределы анализа, проводимого исключительно за счет языковых выразительных средств.
В осмыслении того, как музыка может метафорически обыгрывать последствия травмы, я постараюсь избежать патологизации всего и вся, которая проявляется со всей очевидностью в тех случаях, когда ученые применяют психологические и психоаналитические концепты в сфере искусства. Как и все носители эстетического посыла, музыка способна отображать психологические и эмоциональные реакции на травмы. Но это не означает, что конкретное произведение само по себе содержит какие-либо «симптомы» травмы или терпит «крах» при попытке ее изображения. Будет корректнее сказать, что гибкость выразительных средств, форм, звуковых эффектов и исполнительских практик позволяет музыке отражать боль и страдания ровно в той же мере, как и другие переживания и эмоции.
Литературоведческие и культурологические исследования феномена травмы, которые обращаются к психологическим и психоаналитическим терминам, часто неспособны справиться с разрывом между сознанием и телом. Как отмечает Патрик Бракен, в психологии и психиатрии особый упор на картезианские принципы приводит к доминированию точки зрения, что травма – исключительно психический феномен. Однако страшные события, которые приводят к психологическим нарушениям, неизбежно сопровождаются и физической болью. В то время как некоторые главы этой книги посвящены тем формальным особенностям произведений, в которых отражаются психологические проявления травмы и чувства утраты, в главе 2 я буду рассматривать музыку именно как физическую деятельность по исполнению композиции. Внимание к тому, что происходит с телом при отработке и исполнении музыки, открывает широкие перспективы поиска смысла в воплощенных переживаниях. Боль нередко становится частью исполнения музыки и в некоторых случаях может быть ее существенным элементом. И тогда ощущение дискомфорта или даже мучений оказывается взаимосвязанным с культурным контекстом, в котором фигурируют