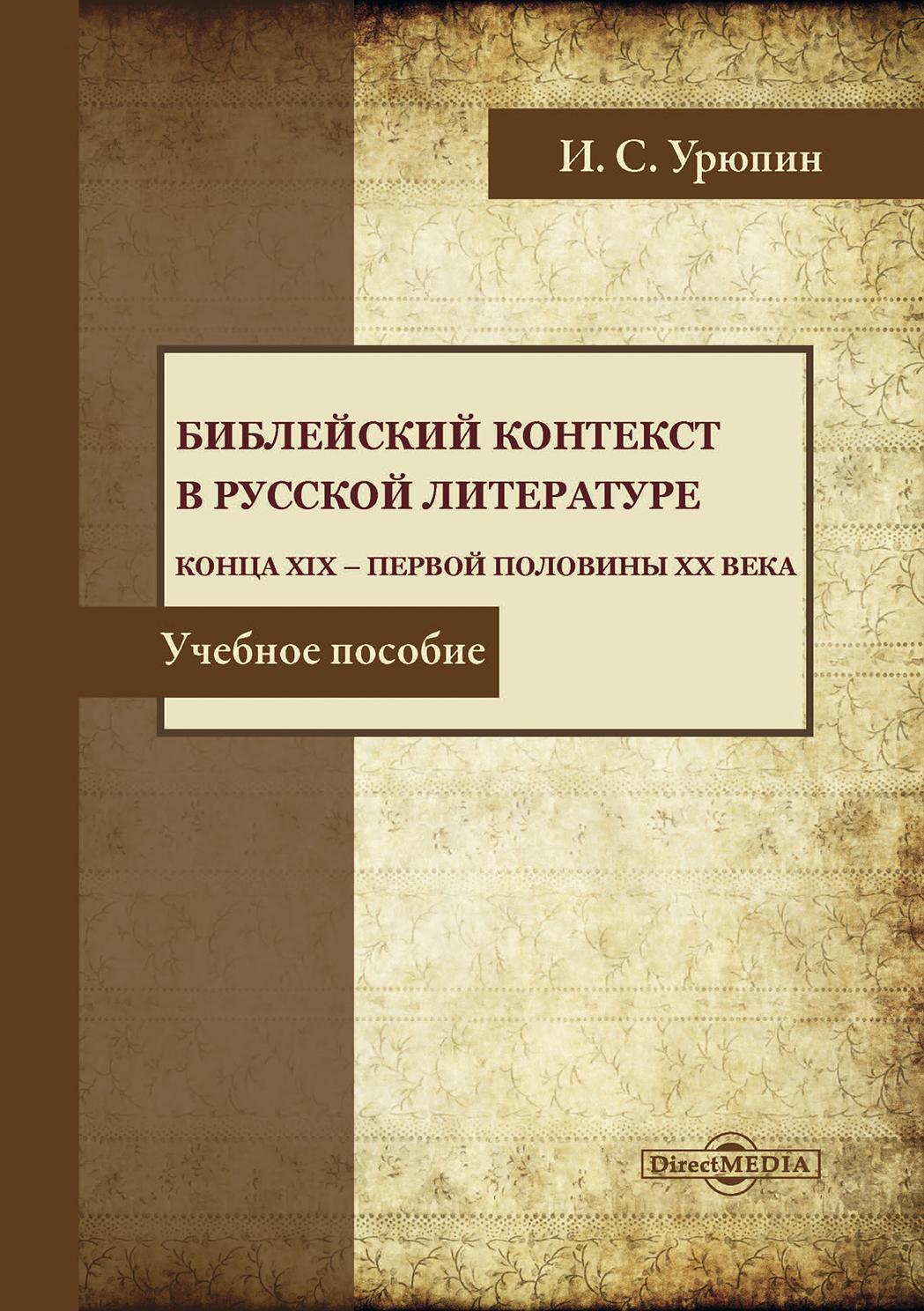страдания, и эстетическими средствами наводит нас на мысли о том, что боль выступает значительной составной частью травмы.
Наконец, я хотела бы поднять вопрос о предполагаемой аудитории моей книги. На написание исследования меня вдохновил текущий интерес музыковедения (в максимально широком смысле, в том числе музыкознания, музыкальной этнографии и теории музыки) к таким темам, как травма, насилие, война и бессилие. Я намерена внести собственную лепту в развитие этого нового направления музыкальной науки. Исследования травм в течение первой четверти XXI века составляли отдельную сферу в рамках гуманитарных и социальных наук, однако вопрос о том, как музыка взаимодействует с проблематикой представлений и нравственных ориентиров (центральная проблема всего дискурса), пока изучался лишь косвенным образом. В свете всех отмеченных междисциплинарных аспектов я обращаюсь как к специалистам в области музыки, так и к далеким от этой сферы людям. Здесь возникает существенный практический момент: общедоступность издания. По большей части я буду рассматривать герменевтические свойства музыкальных произведений, то есть вопросы их интерпретации. Для того чтобы книга была понятна максимально широкой аудитории, я продолжу давать определения важных музыкальных терминов (как уже было в случае «тональности» и «сериализма»). Моя цель – обращаться сразу ко всем возможным читателям, а не только к тем, кто сведущ в музыке.
Резюме глав
В главе 1 мы проследим развитие многих тем, связанных с историей, памятью, страданиями и истиной, которые осмыслялись в СССР в 1970-е годы. Размышления по поводу сущности правды в сочетании с концептами реалистичности и аутентичности особенно применимы к Концерту для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке. Как свидетельство об определенном моменте в истории, эта композиция имеет бессвязную музыкальную фактуру, в которую вплетается множество стилей и цитат, – характерное решение в рамках «полистилистического» подхода, практиковавшегося Шнитке в 1970-е и 1980-е годы. Мои аргументы основаны на утверждении Маргариты Мазо, что так называемый документальный импульс Шнитке представляет собой часть дискурса, нацеленного на выявление истины перед лицом официальной культуры лжи советских властей85. Я буду отстаивать мнение, что в случае Шнитке «правда» восходит не столько к «документальному» характеру представленных композитором цитат, сколько к музыкальному нарративу, в который они складываются. В этой главе посредством анализа и аналогии и с учетом представления о травме как о «недуге времени» будет рассмотрена фрагментированная фактура концерта, отсылки к музыкальным стилям прошлого и манипуляции нашим чувством времени при прослушивании произведения. У Шнитке стилистические отсылки взывают к линейным и телеологическим аспектам тональной музыки прошлого, которые лишь усиливают разрывы и диссонансы, подрывающие любые попытки достичь какой-либо степени завершенности. Иными словами, концерт воспроизводит распад линейного нарратива – один из эффектов, которые часто предполагает травма. Произведение Шнитке выступает свидетельством в виде ответа как на культурный контекст, в котором прослеживается беспокойство по поводу истины, реальности и страданий, так и на психологические переживания, связанные с травмой, и одновременно в виде отражения и первой, и второй категории.
Глава 2 посвящена фокусу культуры в 1980-е годы, включая период гласности, на проблематике памяти и страданий. Особое внимание мы уделим боли как элементу правды и взаимосвязанным нравственным и духовным аспектам. Галина Уствольская известна в высшей степени диссонантными, агрессивными произведениями, в которых филигранной работой с повторами, временем и непредсказуемыми переходами исключается любая телеологичность, или завершенность. Такие работы, как Шестая соната для фортепиано, представляются герметическими произведениями «в себе». Уствольская не включает в композиции, чтобы как-то закрепить их смысл, цитаты или аллюзии на события или музыкальные стили прошлого. Тем не менее ее соната отражает беспокойство, связанное с физической болью как атрибутом общественного дискурса во времена гласности. Для тех, кто хотел поведать о Второй мировой войне и последующих нарушениях прав человека в СССР, повышенное внимание к физической составляющей боли способствовало выведению на первый план реальности страданий в противовес официальным нарративам, которые зачастую затирали или искажали подобные ощущения. Актуализация телесных страданий также могла противостоять попыткам политиков интерпретировать соответствующие переживания в категориях патриотизма и триумфализма. Опираясь на работы литературоведа Элейн Скарри, я представлю в этой главе одухотворенную интерпретацию телесной боли в произведениях Уствольской конца 1980-х годов как противоядие от официальной культуры СССР, которая продолжала оспаривать страдания множества людей при советском режиме.
Во второй половине книги мы обратимся к музыке, которая выступает откликом на скорбь вследствие исторических травм. В главе 3 освещается дальнейшая дискуссия о месте истории и страданий во времена гласности, особенно разгоревшаяся после выхода на экраны грузинского фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. «Tabula Rasa» эстонского композитора Арво Пярта используется в двух сценах, где подчеркиваются чувства личного горя и утраты, возникавшие в связи с репрессиями в CCCR Я буду анализировать музыку и фильм в соотношении друг с другом. «Покаяние» задает существенный контекст для того, чтобы мы могли понять некоторые из динамических решений, лежащих в основе стилистики Пярта, которая отражает влияния музыки самых различных эпох, от средневековой до современной. В свою очередь, «Tabula Rasa» содействует трактовке страданий, которую Абуладзе представляет на экране. Исполнительство и свидетельство – диалогические действия, однако всю неустойчивость диалогов раскрывает именно свидетельствование. «Покаяние» в этом смысле – очень показательное произведение. Когда героиня Кетеван Баратели завершает рассказ, зритель видит, что собравшиеся в суде люди реагируют на него неоднозначным образом: от сочувствия до прямого неприятия. Кинодрама заставляет нас задумываться над рядом параллельных вопросов. Как слушатели воспринимают музыку в качестве средства свидетельствования? Не угрожает ли музыке, как другим носителям эстетического посыла, эстетизация страданий вплоть до безразличия со стороны аудитории? Может ли музыка, вопреки подобным опасностям, пробудить в слушателе способность к эмпатии через воображение?
В заключительной главе 4 мы рассмотрим Симфонию № 3 Генриха Гурецкого, известную, в частности, под названиями Симфония скорбных песнопений и Симфония печальных песен. Я покажу, как произведение различными средствами взаимодействует с исторической памятью и связывает беспокойство о прошлом, духовности и нравственности самих представлений страданий как с польским, так и с международным контекстом. Симфония для оркестра и сопрано представляет собой коллаж отсылок к великому множеству музыкальных и литературных источников, описывающих польскую историю от движений XIX века за национальную независимость от Пруссии, Габсбургской монархии и Российской империи до обеих мировых войн. Произведение выступает как хранилище коллективной памяти: оно отражает травматические события, которые сформировали чувство национальной идентичности поляков, и созвучно тому, что Ева Плоновска Зярек называет «меланхоличным национализмом» Польши86. На многих концертах и записях симфония вплетается в мемориальные события и памятные даты. В 1989 году произведение было исполнено в немецком городе Брауншвейг по случаю 50-летней годовщины нацистского вторжения в Польшу.