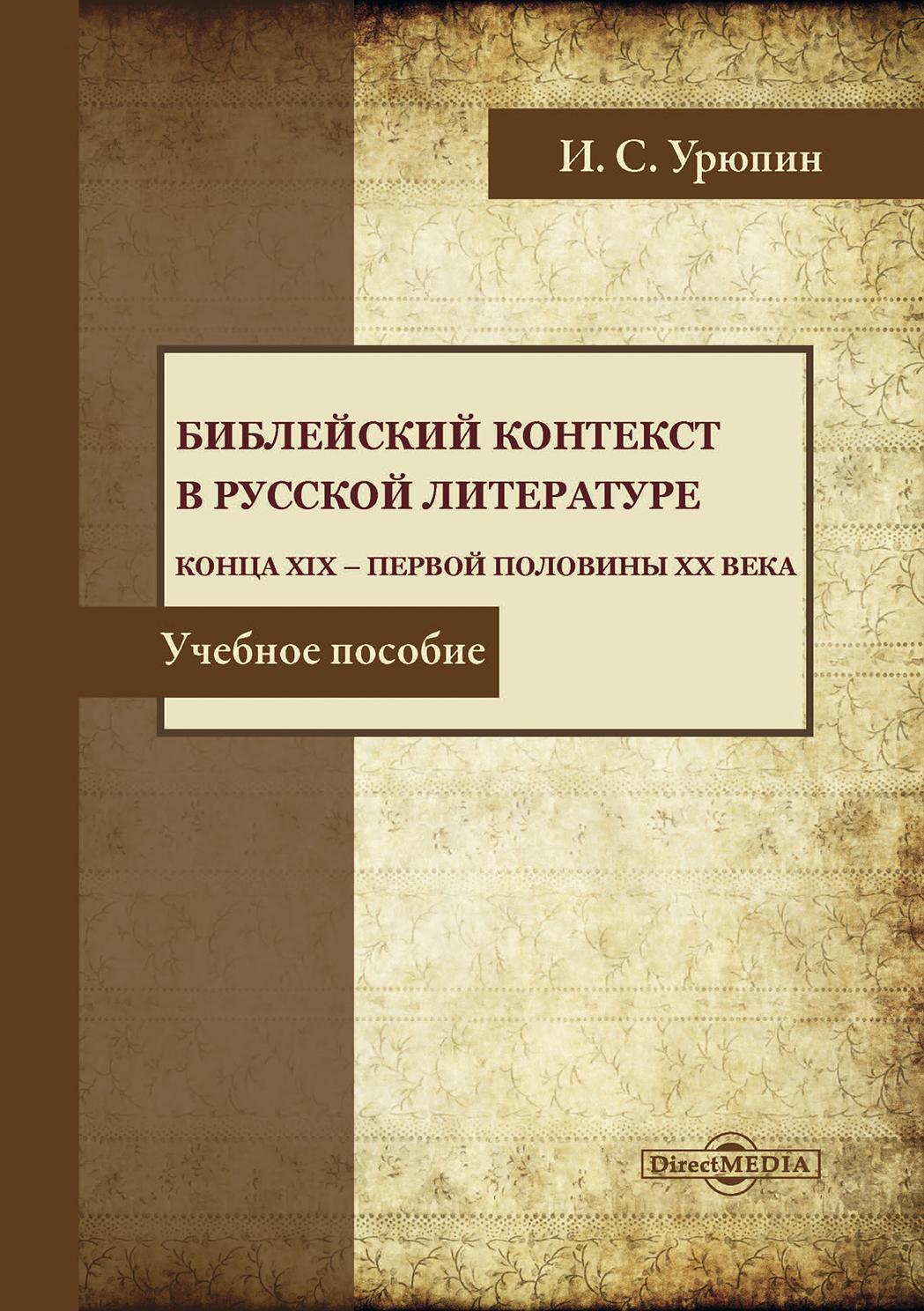избежать патологизации людей, которые не применяют соответствующие термины к самим себе. Тем не менее даже Мерридейл вынуждена признать, что существуют ситуации, в которых для российского общества применимы западные представления о травмах. В частности, ветеран Великой Отечественной войны рассказывает, что даже по прошествии многих десятилетий ему продолжают сниться кошмарные сцены баталий, а Алексей Смирнов, психиатр из Санкт-Петербурга, в диссертации о ПТСР рассказывает, как применяет эти теории для лечения ветеранов Афганской войны. Орландо Файджес признает, что травма – валидная категория для проработки того, как люди реагируют на пережитое насилие и факторы нестабильности. В частности, исследователь отмечает у многих людей, прошедших систему ГУЛАГа, психологические последствия в виде молчания о прошлом, обрывистых нарративов и навязчивых кошмаров78.
В том, как люди психологически реагируют на травмы, может прослеживаться кросс-культурная общность. Однако смысл этих переживаний – как для человека, так и для общества в целом – во многом определяется культурными, социальными и политическими факторами. Файджес рассказывает о людях, которые, прочитав после возвращения из ГУЛАГа мемуары таких авторов, как Солженицын и Евгения Гинзбург, о жизни в трудовых лагерях, оказались под настолько сильным влиянием этих текстов, что интернализировали прочитанное, восполнив таким образом пробелы в собственной памяти. Некоторые даже верили, вопреки очевидным свидетельствам об обратном, будто лично знали Солженицына по лагерям. Говоря об обществе в целом, Мерридейл отмечает, что гласность стала временем, когда значимость травм, в особенности связанных со сталинизмом, была предметом ожесточенных дискуссий. Человек может переживать симптомы, напоминающие ПТСР, однако значение, которое приписывается первоначальной травме и ее последствиям для индивидов и общества, формируется в историческом и культурном контексте. По мнению Мерридейл, начавшийся в конце 1980-х годов процесс по раскрытию информации о событиях более ранней советской истории привел общество к участию в «активном процессе» толкования значимости новых фактов79. Литераторы, журналисты, кинорежиссеры и рядовые граждане вместе искали смысл тех или иных явлений и обсуждали информацию, которая прежде была либо скрыта, либо фальсифицирована.
Каждая из рассматриваемых нами дисциплин – психология, социология и история – выражает соответствующие ее внутренним потребностям соображения о том, каким образом люди пытаются внести ясность в болезненные личные или коллективные события. Воспоминания о прошлых утратах – особенно тех, которые связаны с травматическими явлениями, например войнами и политическими репрессиями, – складываются в процесс интерпретации. Когда мы воздвигаем памятники, пишем газетные статьи, снимаем фильмы или готовим торжественные концерты, нам следует задаться вопросами о том значении, которое придается той или иной травме. В чем именно она заключалась? Кто к ней был причастен? Как мы должны эмоционально реагировать на произошедшее? Со скорбью? С гневом? Рассматривая пересечение музыки, травмы и утраты, я на протяжении всей книги намерена отстаивать мнение, что музыка участвует в описанном процессе интерпретации. Музыка может различным образом исполнять функции свидетельствования: через формальные композиционные элементы, исполнение (воплощение) и восприятие. В каждой из глав мы будем рассматривать, как музыкальное произведение выступает свидетельством страданий и интерпретирует сущность той или иной травмы или утраты с учетом культурного контекста, в котором было создано.
В том, что касается методологии, я солидарна с герменевтическим сдвигом, который Кэлинеску обозначает как одну из черт постмодернизма80. Я не только рассматриваю все четыре произведения, составляющие ядро этой книги, с позиций герменевтики, но и в каждой главе исследую, как музыкальное произведение может само по себе участвовать в процессе интерпретации чего-либо. Обращаясь к таким концептуальным инструментам, как травма, скорбь и постмодернистские теории, в каждом случае я анализирую музыкальные детали с учетом соответствующих исторических и культурных аспектов. Лоренс Крамер предлагает наиболее емкое определение подобного герменевтического подхода:
[Предполагает] принятие во внимание некоторой части культурного фона произведения в качестве контекста и условия существования последнего. Подобные трактовки произведений стремятся обозначить, как музыка работала именно в том контексте, при тех условиях. При этом в такой интерпретации явно нет претензий на то, чтобы отразить, как произведение воспринимали его создатель или первые слушатели. В равной мере мы не можем исключить обращение в рамках нашей трактовки к концептуальным источникам, которые появились уже после выхода произведения в свет… Наше намерение здесь – высказать нечто созвучное с тем, что, возможно, было высказано, вне зависимости от того, действительно ли это было так. Тем самым мы можем предположить, как произведение могло бы взаимодействовать в, с, в рамках или против живой культуры [из которой произошло].
Даже мой коллаж из референсов – восточноевропейский дискурс об истории, памяти, страданиях, истине и нравственности, а также теории о травме и скорби, почерпнутые из психологии, социологии, истории, литературы и культуроведения, – задает некоторый набор решений и альтернатив. Как поясняет Крамер, «культурные рамки… – конструкты, собранные из отдельных фрагментов самим интерпретатором, чьи усилия предполагают по умолчанию упорядочивающий принцип или теорию, сколь бы неформальными те ни были»81. Все четыре произведения, которые я рассмотрю, в той или иной мере связаны с утратой и травмой. Я буду обращаться к историческим, культурологическим и теоретическим источникам с целью контекстуализировать эти композиции и понять, как именно взаимосвязаны каждая из них и феномен страдания.
Еще один способ проникновения в эту сферу на границе между герменевтикой, эстетикой и реальностью обнаруживается в области перформативной теории, в особенности в диалоге между Ричардом Шехнером и Виктором Тёрнером82. Шехнер фиксировал взаимосвязь между исполнительством (в его случае – театром) и реальностью в виде всем знакомой восьмерки, обозначающей бесконечность. На одном конце символа мы обнаруживаем реальность: события, идеи, мысли и действия. На другом конце восьмерки оказывается исполнительство, перенимающее элементы реальности, которые, в свою очередь, подобно игрушечным кубикам, складываются и преобразуются в новые структуры в руках режиссеров, актеров, сценографов и многих других специалистов. Поскольку исполнительство охватывает публичные действа, театр (и, на мой взгляд, музыка, а также любой другой носитель эстетического посыла) обнаруживает новые связи с реальностью и выдвигает новую информацию и идеи. Исполнительство и реальность могут казаться весьма различными средствами, но в действительности тесно переплетаются и свободно воздействуют друг на друга. Исполнительство инициирует формирование нового набора адаптированных идей и впечатлений, которые могут найти место в реальном мире. Таким образом, между реальностью и исполнительством формируется закрытая петля извечной обратной связи, как ясно следует из выводов Шехнера. В некотором смысле все рассматриваемые мной произведения в той или иной мере взаимодействуют с определенными аспектами травмы (фрагментацией и дезорганизацией воспоминаний, физической болью и ощущением безопасности, которое способствует реабилитации) и одновременно отражают выступавшие фоном для творчества композиторов общественные дискуссии на тему исторической памяти и страданий. Во всех четырех