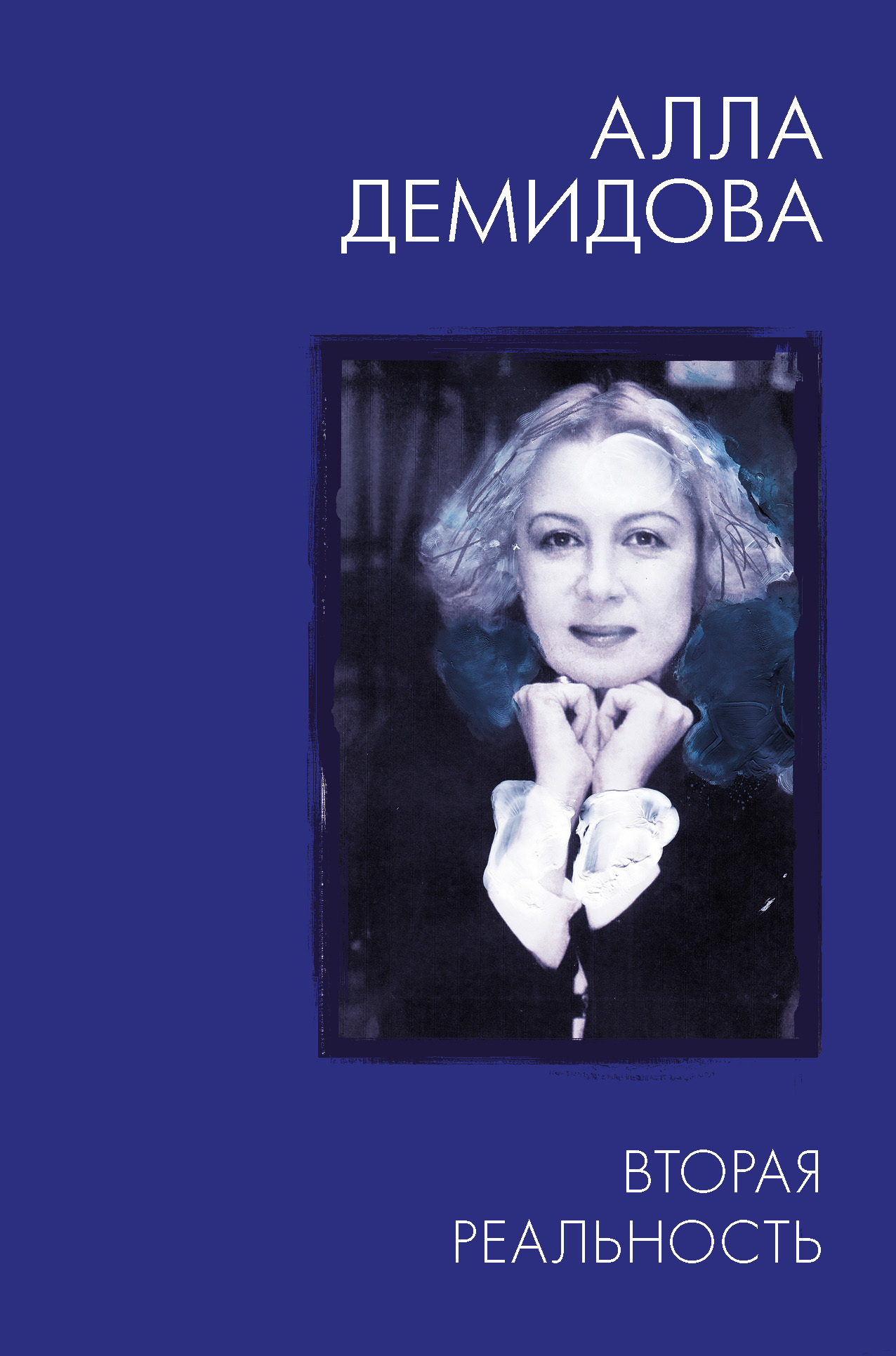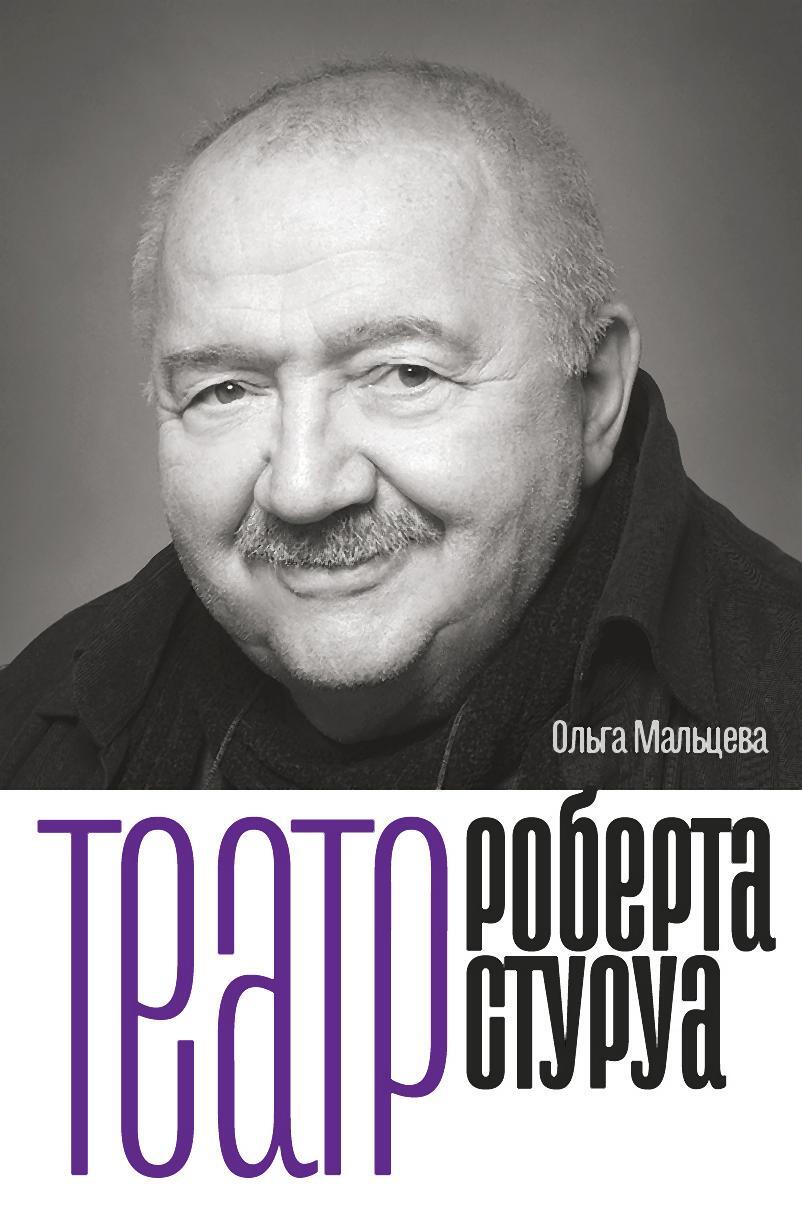нас отвращение к малодушию; а благородная признательность Ираклия, рискующего жизнью ради Маркиана, которому он обязан своим спасением, повергает нас в ужас перед неблагодарностью.
Не хочу скрывать, что эта пьеса — одна из тех, к коей я испытываю наибольшую симпатию. Поэтому отмечу в ней только несовершенство финала, который развертывается слишком стремительно, как я уже заметил это в другом месте{147}, и где можно найти несоответствие в характерах Прусия и Фламиния, которые, избрав сперва бегство по морю, неожиданно призывают на помощь все свое мужество и возвращаются к царице Арсиное, чтобы защитить ее и умереть вместе с нею. Фламиний оказывается в довольно трудном положении, видя, как объединилась вся царская семья, несмотря на принятые им меры для ее разъединения и вопреки инструкциям, которые он привез из Рима. Он видит, как Никомед добивается благорасположения царицы и царевича Аттала, коего Фламиний избрал своим орудием, направленным против величия брата, и кажется, будто он вернулся только затем, чтобы стать свидетелем своего поражения. Первоначально я не заставлял их возвращаться в конце пьесы и довольствовался тем, что Никомед, обращаясь к мачехе, выражал ей свое крайнее огорчение побегом царя и невозможностью выразить ему свое почтение. Это не вступало в противоречие с историей, поскольку оставляло под сомнением смерть Прусия, но вкус зрителей, которых мы приучили видеть всех наших персонажей собравшимися вместе в конце такого рода поэм, был причиной подобной перемены, на которую я решился, дабы доставить им больше удовольствия, хотя несколько и отошел от истины.
СЕРТОРИЙ
ТРАГЕДИЯ
{148}
Перевод Ю. Корнеева
К ЧИТАТЕЛЮ
Ты не найдешь в этой трагедии приманок, обеспечивающих успех театральным произведениям такого рода: здесь нет ни объяснений в любви, ни буйства страстей, ни пышных описаний, ни велеречивых рассказов. Однако пьеса моя не совсем уже разочаровала публику, а имена ее прославленных героев, величие их побуждений и новизна кое-каких выведенных мною характеров восполнили отсутствие названных выше прикрас. Сюжет прост, но охватывает столько общеизвестных событий, изменять которые можно лишь в той мере, в какой это оправдано непреложной необходимостью подчинить их правилам жанра, что мне пришлось быть особенно строгим к себе в смысле места и времени. Так как история не давала мне материала для женских образов, я вынужден был дать волю фантазии и вывел в трагедии двух героинь, равно не противоречащих исторической правде, коей я придерживался. Первая из них — лицо подлинное: это первая жена Помпея, с которой он развелся, чтоб породниться с Суллой, став мужем падчерицы его Эмилии. Развод Помпея подтвержден всеми его жизнеописателями, но ни один из них не сообщает, что´ стало потом с этой несчастною, которая именуется Антистией у всех них, за исключением некоего испанца, епископа Жеронского:{149} он называет ее Аристией, и я предпочел его версию — она благозвучнее. Молчание историков насчет этой женщины дало мне полную возможность измыслить для нее убежище, и я решил, что будет всего правдоподобней, если она найдет его у врагов своих обидчиков; это тем более убедительно, что позволяет добиться сильного сценического эффекта: она доставляет Серторию письма римских государственных мужей, которые Перпенна передал впоследствии Помпею, поступившему с ними так же, как он поступает у меня. Другая женщина — целиком плод моего вымысла, вдохновленного тем не менее самой историей. Последняя сообщает нам, что лузитаны{150} призвали Сертория из Африки, дабы он возглавил их борьбу против сулланцев, но мы не знаем, была у лузитан республика или монархия. Таким образом, ничто не препятствовало мне наделить их царицей, и, чтобы как можно больше возвысить ее, я сделал эту женщину наследницей Вириата{151} (чье имя она и носит), величайшего из мужей, которых Испания сумела противопоставить римлянам, и последнего, если не считать Сертория, кто оказал им сопротивление в иберийских провинциях. На самом деле царем он не был, но властью обладал поистине царской, и все те преторы и консулы, которых Рим слал против него и которых он столь часто громил, питали к нему такое уважение, что заключали с ним мирные договоры как с суверенным государем и законным противником. Умер Вириат за шестьдесят восемь лет до гибели того, о ком я пишу, так что измышленная мною царица вполне может быть его правнучкой или праправнучкой. Разбит он был консулом Квинтом Сервилием, а не Брутом{152}, как утверждает у меня эта монархиня: положившись на вышеназванного испанского епископа, я, к сожалению, повторил его ошибку. Ее легко исправить, изменив несколько слов в единственном стихе, где говорится о победителе Вириата и который должен звучать так:
Взошла Сервилия счастливая звезда.
Я, разумеется, знаю, что Сулла, так часто поминаемый в трагедии, умер за шесть лет до Сертория;{153} но автор, добиваясь единства действия, волен при нужде ускорять события; следовательно, то, что заняло целых шесть лет, я вправе уложить в шесть дней, а то и в шесть часов, если только это не совсем уж невероятно. Вот почему, отнюдь не противореча своим же словам, я вполне могу допустить, что смерть Суллы совпадает по времени с убийством Сертория и происходит уже после того, как Аркас отбыл из Рима с вестью об отречении диктатора от власти. Скажу больше: драматургу следует, конечно, строго соблюдать хронологическую последовательность; однако при условии, что действующие лица знакомы друг с другом и связаны общими интересами, мы отнюдь не обязаны считаться с точной датой их смерти. Сулла умер раньше, чем убили Сертория, но вполне мог пережить его, и зритель, обладающий обычно лишь поверхностным знанием истории, редко бывает оскорблен такой натяжкой, не выходящей за пределы правдоподобия. Это не значит, что я склонен возводить подобную вольность в общее правило, без каких бы то ни было ограничений. Смерть Суллы, например, нисколько не отразилась на положении Сертория в Испании и так мало повлияла на его судьбу, что, читая жизнеописание этого героя у Плутарха, мы не в силах установить, кто же из двоих скончался первым, если только не почерпнули соответствующих сведений в других источниках. Другое дело — события, приводящие к гибели государств, разгрому борющихся партий, изменению хода истории, как, скажем, смерть Помпея: автор, у которого она предшествовала бы убийству Цезаря, неизбежно навлек бы на себя негодование публики. К тому же я вынужден был несколько приукрасить и оправдать войну,