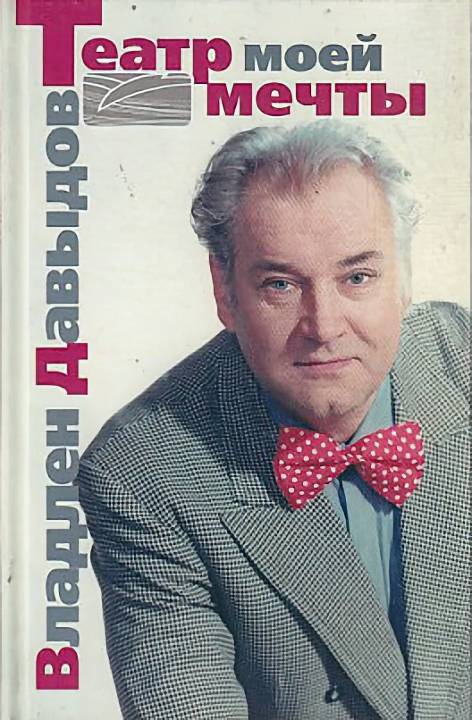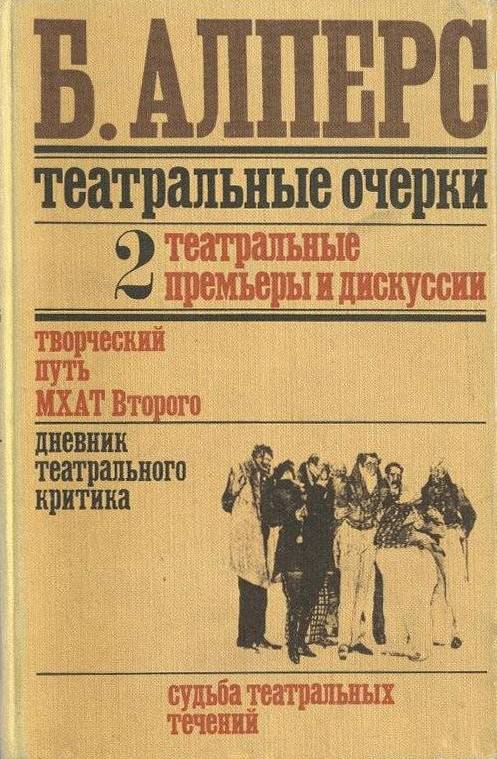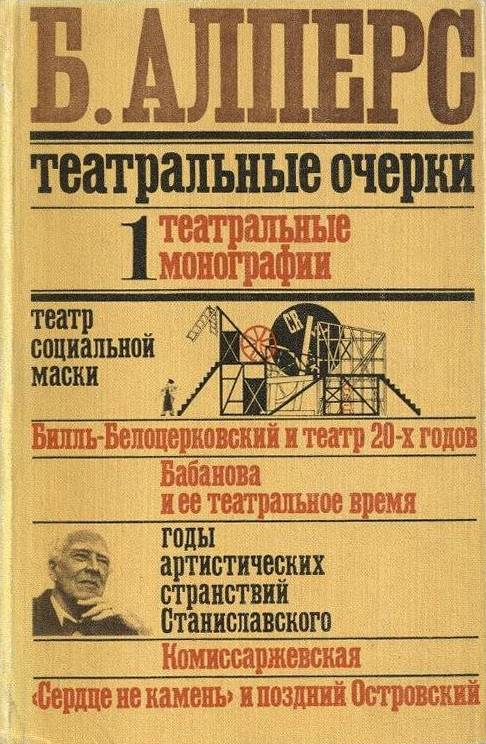(“Санди Телеграф”) писал в этой связи о “плохой игре, на которую способен только великий актер…
Я остаюсь пока единственным критиком и, наверное, навеки останусь единственным зрителем, которому Отелло сэра Лоренса Оливье представляется самым чудовищным и порочным примером исполнения этой роли за последнее десятилетие. Сэр Лоренс властвует над каждым своим мускулом — жаль, но тронуть меня он оказался не властен… Он — романтический гимнаст нашей сцены, самый благородный из всех борцов вольного стиля. Он может навалиться всем весом на белый стих и метнуть монолог, как копье, так, что он достигнет последнего ряда галерки. Но сейчас ему грозит перетренировка”. В самом деле, Брайен был вовсе не одинок. Многие другие тоже не были тронуты; и даже сейчас, когда критики или актеры принимаются обсуждать знаменитые воплощения Шекспира, наиболее ожесточенные споры вызывает Отелло Оливье. Одни восхваляют его до небес; другие считают ужасающей “карикатурой”. Неудивительно, что Джон Осборн мог назвать его “невыразимо вульгарным”. Более неожиданна реакция давнишней поклонницы Оливье, Сибил Торндайк, чьи глаза расширились от ужаса, как в гиньоле, когда спросили об ее мнении: “О, этот Отелло! Невыносимо. Совершенно жуткий негр!”
Нетрудно понять, почему этот Отелло вызывает такие полярные отклики. Говоря о роли, Оливье подчеркивал всю важность расового различия: “Им пронизана вся пьеса… оно в высшей степени сексуально… Я уверен, что Шекспир добивался шокового эффекта”. Живо подчеркивая этот аспект на сцене, Оливье предлагал интерпретацию, бесконечно импонировавшую новому поколению театралов, которые искали скорее эффектного зрелища, чем лирической красоты, и которых не слишком беспокоило то, что взрывы быстрой речи — особенно в последней сцене, требующей от актера невероятного напряжения, — выводили на первый план силу в ущерб поэзии. Другим, однако, казалось, что он слишком сосредоточился на внешности, уделив мало внимания эмоциональной характеристике образа; что к тому же он с самого начала изобразил Мавра настолько сильной личностью, что разрушение его якобы бессмертной любви далось без особых усилий и не могло тронуть до слез.
Еще в 1950 году Оливье говорил одному критику: ”Я играл все, кроме Отелло, но не горю желанием выкраситься в черный цвет и уступить первенство какому-нибудь молодому, блестящему Яго”. В 1964 году эти самые слова были брошены ему прямо в угольно-черное лицо, быть может, слишком резко, но по вполне понятной причине, так как трудно было не заподозрить, что, оберегая свои интересы, он поручил роль Яго, одну из длиннейших у Шекспира, актеру (Фрэнку Финлею), только однажды игравшему до того в шекспировской пьесе (Первого могильщика в “Гамлете”). Оливье отзывался о Финлее как об актере с такими блестящими данными, каких он давно не видел, и директор и его помощники, естественно, хотели способствовать развитию одного из самых многообещающих талантов Национального театра. Однако внезапное выдвижение Финлея в категорию тяжеловесов, столкнувшее его на ринге с чемпионом в пике формы, смахивало на величайшую несообразность века.
Финлей смело встретил вызов и, во всяком случае, неуклонно набирал силу в исполнении своей роли; в целом с тех пор он более чем оправдал высокое мнение Оливье о его актерских возможностях. Но в то время он не мог даже надеяться соперничать на сцене с Мавром Оливье. Один из критиков считал его трактовку Яго той роковой ошибкой, которая лишила величия всю постановку. Однако этот упрек в равной мере относится и к Оливье, так как его интерпретация Отелло никак не давала Финлею возможности создать убедительный образ Яго. Кто мог поверить, чтобы Мавр, такой утонченный и изысканный, стоящий на ступень выше традиционного воина-тугодума, был обманут заурядным молокососом-поручнком со скрипучим голосом; а если и был, то стоило ли глубоко сочувствовать его судьбе? В своем обширном труде ”Шекспир на сцене” актер Роберт Спейт высказался без обиняков; ”3атмить этого Отелло не сумел никто, а постановка только выиграла бы, если бы в ней предложили участвовать Майклу Редгрейву".
В отличие от "Дяди Вани” подбор исполнителей в Отелло был далеко не идеален; ансамбль не отличался ни совершенной сыгранностью, ни основательностью, достигнутыми Московским Художественным театром. Но было ли это так уж важно? Что плохого, если превосходный актер безраздельно захватывает инициативу и приводит публику в трепет тем сокрушительным, выдержанным на одном дыхании выступлением, которое можно уподобить спортивному рекорду в беге? Ученые мужи могли жаловаться, что это не шекспировский ”Отелло”, что разрушено драматическое равновесие, но по крайней мере это было действительно эффектное и смелое театральное представление. Многие восхищались исполнением Оливье. У многих оно вызывало отвращение. Но безразличным не оставался никто.
Однажды сэра Лоренса спросили, какую из своих директорских обязанностей он считает самой важной. Он ответил, не задумываясь: ”Чтобы ни одно кресло не оставалось без задницы". ”Отелло” справился с этой задачей потрясающе успешно. В 1964 году в Англии не существовало бумажки, раздобыть которую было бы труднее, чем билет на этот спектакль. Лорду Сноудону пришлось стоять на утреннем представлении. Артур Шлезингер-младший, в то время один из ближайших помощников президента Кеннеди, так и не сумел попасть в театр. Раздел экстренных объявлений ”Таймс” каждый день печатал мольбы продать билет за любые деньги. Самая кассовая из современных постановок Шекспира стала чем-то вроде живого театрального мифа, и наивысшую награду Оливье получил в виде пачки писем от известных актеров, занятых в текущих спектаклях Вест-Энда. Они просили организовать специальное утреннее представление, дабы получить возможность увидеть его игру.
Очереди на всю ночь перед зданием ”Олд Вика” превратились в нормальное явление, и число мест, которыми располагал зрительный зал театра (878), никогда еще не выглядело столь ничтожным. В первом сезоне Оливье играл трижды в неделю, и это было настолько изнурительно, что, хотя публика требовала большего, он, наоборот, мог лишь сократить количество спектаклей, сведя их в следующем сезоне до двух в неделю. Доводы в пользу экранизации становились неотразимыми. Сам сэр Лоренс не горел энтузиазмом по этому поводу. Его гиперболизированному исполнению был противопоказан крупный план. По самому существу своему роль была сугубо театральной; кроме того, он опасался навеки замуровать себя в фильме, который могли регулярно показывать пр телевидению ("Лично я через двадцать лет смогу прекрасно обойтись без семейных смешков в мой адрес"). Но отказаться было немыслимо, так как тогда зрители лишились бы возможности увидеть великолепную игру редкостного мастера, а Национальный театр — крайне выгодного источника дохода. Итак, он согласился. В июле 1965 года за три недели режиссер — Стюарт Бердж, заселявший ранее спектакль "Дядя Ваня",— выпустил новую цветную ленту. Сценический вариант перенесли на экран без малейших сокращений, не добавив ни одного "натурного" кадра.
По