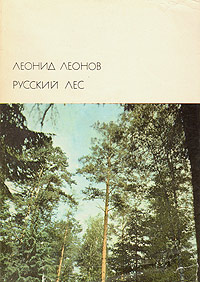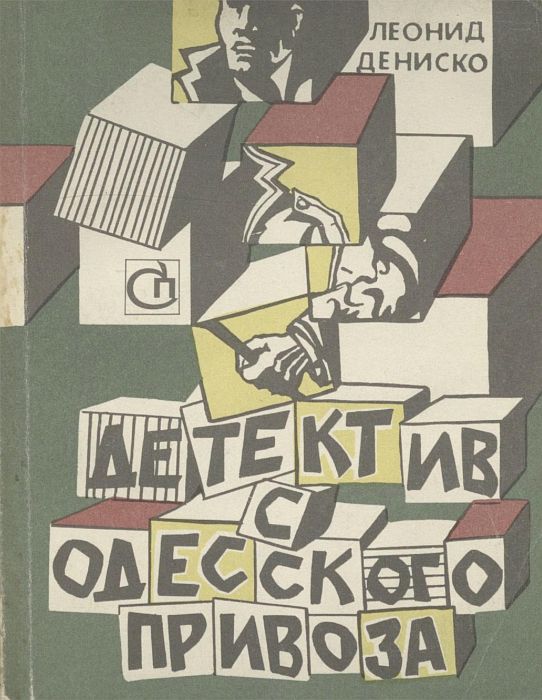может быть, и найдется, — обступили Николая Васильевича заботы, тревоги, огорчения.
Квартира — раз. Долг Данилевскому — два. «Ганс Кюхельгартен» — три. А что четыре? И, пожалуй, что скука — это самое первое. Скука, тоска, раздражение. От санктпетербургского хлеба живот пучит, от невской воды волосы вылезать начали. Серое небо, — в часовенках под Нежином потолки такие бывают, низкие и от копоти потемневшие.
И теснота в этом Петербурге страшная, грязь, люди грубы, завистливы, чем-то напуганы. Каменные дома, грязные, узкие лестницы.
Но зато как чудесно думается здесь о будущем, о работе, за которую вот-вот возьмешься! И сколько наблюдений, встреч, знакомств — всего того, что Данилевский называет материалом. Сегодня, например, выходя из дому и пряча нос в воротник шинели, услыхал Николай Васильевич разговор. Старик-бондарь сказал шарманщику:
— Ищи, как хлеба ищут, должна найтись веревка. Чтоб в Рассее да веревки не нашлось, — не может быть того! Хватает у нас веревок…
Сказал и на Гоголя поглядел опасливо.
У Кокушкина моста двое в чуйках у костра грелись. Николай Васильевич залюбовался: дым розовый, огонь малиновый, дрова стеклянные, насквозь жар виден.
Чуйка с чуйкой беседуют о том, что обоим жрать нечего, вчера последний алтын проели, а нынче хоть на паперть вставай!
— Да и на паперти ходу нам нету, — сказал чуйка. — Там свои, за место пять алтын просят.
— Не просят, а подавай, — поправил товарищ. — А где подавай, там и хлеба каравай.
— А мне б и корочка сгодилась, — сказал оборванец с Покрова. — Намедни шел я Садовой, гляжу — чиновный навстречу. Я к нему, руку протянул, а он мне свою сует. «Очень приятно познакомиться с вами, — говорит, — сам с чужого плеча одежу несу…» Глянул я, а под шинелью крест медный на шнурке. Наш!
— Християнин, — весело сказала чуйка.
— Теперь рубца бы! — мечтательно пропел оборванец. — Вчера калачи ел; купчиха на Фонтанке преставилась, одаривали.
Множество людей попадалось Гоголю на пути, и все они говорили о еде, о бубликах, о штофе водки. Ударили в колокол у Вознесенья. Гоголь остановился, подумал, зашел в церковь, купил свечу за две копейки, истово перекрестился и поставил угоднику своему любимому — Николаю. С детства полюбил он его бороду, хитрый, мужицкий взгляд, жесткую складку у рта. В церкви молились старухи, мещанки, солдат бухал поклоны, что-то бормоча себе под нос. Дьякон выходил на амвон и спрашивал, поп из алтаря отвечал. Гоголь постоял с полчаса и, умиленный, вышел на паперть. Оборванец, тот самый, что у костра грелся, протянул руку:
— Пожертвуйте, ваше сиятельство!
И ему, и другому, и третьему рассовал Гоголь мелочь, звеневшую во внутреннем кармане (на коленкоре, что по пятаку за аршин). Темнело. Падал снег. Трещали костры. Печальный звон стоял над городом.
«Экая тоска!» — подумал Гоголь, и стало ему до того грустно, что хоть плачь. Припомнились слова старика о том, что в России веревок хватает, и вдруг стало страшно. Он прибавил шагу, словно спасаясь от кого-то. Добежал до Исаакия. Собор стоял в лесах. Фальконетовский Петр едва различим был в холодной снежной мгле. На Неве кто-то пел, должно быть, мужики, вырубавшие лед.
Гоголь подошел к парапету набережной, окинул взглядом Неву: бородатые мужики копошились на замерзшей реке, унылая русская песня старалась пробиться вверх, к тяжелому небу, но падала и замирала. И вот совершенно неожиданно густой тенор, фальшивя и срываясь, донес до ушей Гоголя родную его сердцу песню:
Гоп, мои гречаныки, гоп, мои билы!..
Пропел одну фразу и умолк. Гоголь вздрогнул: родимая Малороссия встала перед ним, запахи домашние, милые явственно возникли и пропали. Он крикнул в темень:
— Эй, земляк! Пой дальше!
Тот же голос, голос певшего, произнес в ответ:
— А ты меня кормил, что петь заставляешь? Сам пой, сытый!
Матерно выругался, запел что-то неразборчивое, тягучее.
Гоголь отошел от парапета, взглянул на здания, деревья, памятник Петру. Сообразил: совсем недавно стояли тут полки и ждали приказа своих начальников. Сам император дрог здесь на холоду, и от роты к роте перебегали отчаянные головушки, а после кровь мешалась со снегом. Где они сейчас, те, что помилованы, уцелели, в живых остались? А те, повешенные, где почиют остатним смертным сном, где сгнивают их косточки?
Пушкин возник перед взором. Имя его, светлое и бодрящее, разогнало тоску и помирило с неустройством вокруг и в себе самом.
— Пушкин, Александр Сергеевич! — тепло, душевно, так, как только имя матери произносят, воскликнул Гоголь. И про себя, улыбаясь гордо, но застенчиво, произнес: — В одном городе с тобою живу…
Шинель распахнулась, но холода Николай Васильевич не ощутил, — теплота внутренняя согревала его. Идти было легко, и необычное чувство счастья и восторга овладело всем существом. Черный крытый возок и позади него военный на лошади проехали в сторону дворца. «Кого это? Что это?» — подумал Гоголь, и сразу стало холодно и упало сердце.
Где-то заныла труба, щелкнул барабан, не то крик, не то стон донесся с Невы. Встала луна на небе. Шел одиннадцатый час, ночь близилась. Гоголь решил вернуться домой Невским, свернуть на Садовую, а там все прямо, все прямо, — не заблудишься, ежели бы и захотел.
3
Перейдя мост через Мойку, возле дома Строганова, нагнал Николай Васильевич человека в солидной шинели, в чиновничьей фуражке на вате; человек, видимо, был в преклонном возрасте, ибо шел неверной, качающейся походкой, старательно перебирая ногами и глухо кашляя. Он оборачивался вслед каждой женщине, пугливо уступал дорогу особам высокого чина, а дойдя до Казанского собора и повернув направо, воровато заглядывал в окна подвалов и первых этажей.
Гоголь шагал за ним на расстоянии десяти — двенадцати шагов и с превеликим любопытством наблюдал за тем, что он делает. У одного окна чиновник особенно долго задержался, потом махнул рукой и тронулся дальше. Подошел к окну и Гоголь, заглянул: в маленькой, бедно меблированной комнатушке сидел за столом бритый старичок и что-то писал.
«Бумагу перебеляет», — подумал Гоголь.
Старичок отложил перо, встал, растворил дверцу шкафа. Там висела шинель — точная копия той, что была на Гоголе. Старичок полюбовался на шинель, закрыл шкаф, сел к столу, взял перо в руки. Он писал и гримасничал, вытягивая губы в дудочку, тер переносицу, слюною мочил височки, задумывался, улыбался и снова подбегал к шкафу.
— Достиг мечтаний своих, — сказал Гоголь. — Теперь на время счастлив, но потом другие мечты в голову забредут. Умилительно!
И ударил в стекло согнутым пальцем.
Рука пишущего дрогнула. Он встал со стула. Гоголь догонял чиновника. Присев на