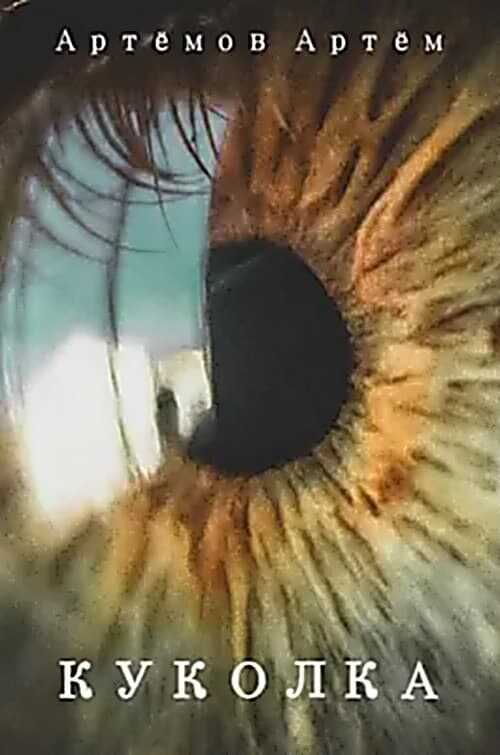слышу сплошь передачи о депрессии, лекарствах, микроэлементах. Эти микроэлементы производят сегодня в Китае и Индии, и часто они влияют на наш гормональный фон. А иногда даже убивают, ведь мы пренебрегаем тем, как взаимодействуют лекарства, которые могут вызвать эффект разорвавшейся бомбы.
И все только ради того, чтобы выдерживать эту жизнь. Здесь, во Франции.
Мне очень нравятся аптеки.
Ты видишь по ним состояние страны, ее болезни, ее предписания, то, как она живет.
Время, которое у нее осталось.
Зло, которое губит Францию, очевидно. И оно повсюду.
Куда бы я ни посмотрел, увиденное ранит мой взгляд.
Во Франции есть прекрасные места, но все двери там закрыты.
В сельской местности больше не торгуют, там все меньше кафе, а вечерами – абсолютная темнота. Нигде никого не видно. Это ужасно.
У людей больше нет радости. И очень трудно встретить искренний взгляд. Разве что, возможно, у нескольких сумасшедших. И когда я надолго здесь остаюсь, мне кажется, будто я слишком много времени провел в психушке. И вскоре я чувствую, что больше не могу, я устал, скис, и у меня лишь одно желание – быть в Другом месте.
В одной из пустынных или горных стран, где все еще слышатся звуки библейских времен, или в одной из мусульманских стран, где постоянно слышится шум жизни, где издали доносится детский смех, где скрипит телега пекаря с запряженным в нее ослом, где громко разговаривают, смеются или ругаются, играют в карты на тротуаре, где с минарета созывают на молитву.
Что слышно по вечерам на улицах Франции?
Ничего.
Тишина.
Мертвая тишина.
Когда я возвращаюсь из России, Алжира, Эфиопии, Узбекистана, мне кажется, что в мое отсутствие здесь взорвалась бомба.
Я ошеломлен царящей пустотой.
На улицах, во взглядах, в умах.
Этой тревожной тишиной.
Я не видел другой страны, где люди так редко останавливались бы на улице, чтобы поговорить. Здесь перебегают с места на место и быстро возвращаются домой.
Я даже избегаю спрашивать у тех, с кем встречаюсь сейчас в Париже, как идут дела. Потому что в большинстве случаев дела у них не идут.
Есть еще такие страны, где остается невероятная энергия, такие города, как Тегеран, Новосибирск, Омск. Мы здесь этого не понимаем.
Что нам осталось?
Возможно, рынки. Там еще теплится жизнь, люди болтают, пьют, обсуждают товар, проявляют щедрость.
Но в остальном…
Франция надломлена.
Люди здесь грустны.
Чувствуется, что они всего боятся, они только и делают, что борются.
Некоторые ожесточаются.
Мне не нравится то, что я здесь вижу.
Очень скоро я начинаю чувствовать себя растением во вредной для него почве.
Я не выношу этого недостатка любви повсюду.
Я вижу слишком много лжи, промывания мозгов.
Повсюду свинцовая стяжка, которая сковывает мозги.
Когда слушаю, как протестующие кричат: «Убейте себя, убейте себя!» – я понимаю: ни у одного животного нет такого яростного, такого отчаянного рыка.
Тогда я предпочитаю исчезнуть.
Исчезнуть без насилия.
Перейти в другой хаос, язык которого я хотя бы не понимаю.
Отправиться в Другое.
К счастью, несколько прекрасных цветов все еще растут в навозе этой французской депрессии.
Я думаю о Мишеле Уэльбеке, его последнем романе «Серотонин».
Он, Уэльбек, – денди. Великолепный денди, немного похожий на Сержа Генсбура[12], с его особым восприятием вещей, с его поэзией, с его неприкаянным еврейством, которое так великолепно в нем проявлялось.
Для меня сегодня Уэльбек – единственный.
Все французские писатели по сравнению с ним кажутся напыщенными.
Он действительно очень интересный писатель.
Сегодняшняя Франция – мы встречаемся с ней у него дома. Это она делает его таким.
«Серотонин» не мог быть написан на другом языке.
И в этой книге вся честность депрессии.
Я провел с Уэльбеком несколько недель, я видел его влюбленным, я видел его извращенцем, манипулятором, я видел его невыносимым, ошеломленным, но он всегда был честным.
Он никогда себе не лжет.
Иначе невозможно написать то, что он пишет. Некоторые считают это возмутительным, но, возможно, это необходимо, чтобы восстановить хрупкое равновесие в этой такой скандальной стране.
Когда он ведет телепередачу, у него сразу видна мысль.
Он продает не свой образ, нет, он сразу сует тебе в глотку одиночество писателя. В прямом эфире.
Крупным планом.
У Маргерит Дюрас было такое. У нее тоже была такая честность. Ее единственный вопрос был в том, как добраться до истины того, что она пережила. Вытащить то, что было у нее в багаже. В той или иной форме это должно было выйти наружу, и даже если воображение занимало место воспоминаний, – не важно, это было честно от начала до конца.
У нее тоже получалось живо и талантливо.
Этого не хватает.
Нынешняя французская политика ничего не изменит.
Эта политика, как и всякая политика, есть не что иное, как ненависть.
Теперь это даже не политика, это просто установки. Достаточно посмотреть на людей, которые правят нами или хотят нами править. Даже не стоит включать звук. Достаточно одного их вида, чтобы понять, что тебя пытаются надуть.
Они все похожи на телеведущих, у них больше нет живота, мы даже не знаем, бывают ли у них физиологические отправления. Это просто костюмы – нет, вешалки. Бюрократы, все одинаковые. Как римские сенаторы. Никаких чрезмерностей.
Они вообще ни в чем не другие, увы!
Они здесь и только здесь.
Даже когда путешествуют, они не путешествуют. Они в своем салоне, в своем пузыре, со своими бумагами, своими советниками.
Будь ты высокопоставленным чиновником или диктатором, это ничего не меняет.
Любая власть лишает тебя Другого. Ты останешься там, с такими, как ты. Среди них.
И очень быстро начинаешь задыхаться. Даже не отдавая себе в этом отчет.
Бывают, конечно, исключения. Жак Ширак, к примеру: чувствовалось, что у него есть страсть к жизни, которая дает ему истинную энергию. Он любил выпить, поесть, ему случалось опаздывать, он обладал настоящей культурой общения, приятия, человечностью. У него был задний план, а не просто картинка. Он знал, что такое Другое. Путин говорит, что это самый интересный человек, какого он встречал. Как с человеческой, так и с политической точки зрения. Многие русские любили его, Ширака. И я их понимаю.
Мне тоже он всегда очень нравился.
Он позвонил мне в 1995 году, в тот момент, когда у него был самый низкий рейтинг, потому что ему было очень трудно выступать на телевидении. Я понимал, что он хотел сказать, я, которому долго мешали слова. Я посоветовал ему сразу все выложить, начать передачу с того, что ему трудно говорить перед камерой, что по этой причине он может показаться сухим, непривлекательным, а затем сразу приступить к тому, что собирался сказать.
Это как у генуэзцев: надо не откладывая откупорить бутылку! И, главное, никогда не бояться оценивать самих себя.
Все-таки это именно он, Ширак, отказался идти на войну в Ирак с американцами. Он сказал им это ясно, твердо и точно. Ничего общего со всеми этими увертками, которые характерны сегодня для наших политиков.
Нет,