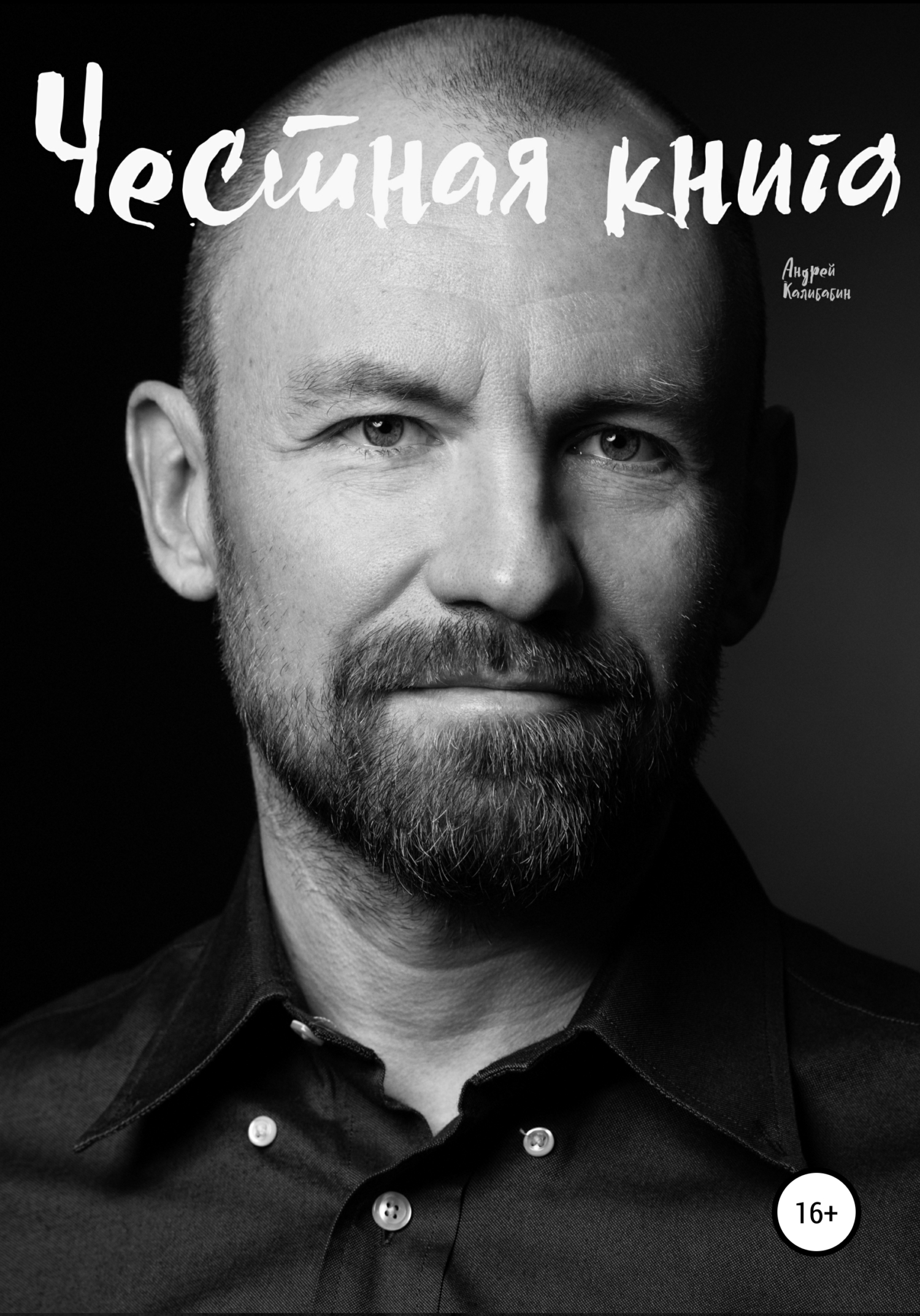сильнее болит нога у Сидора, слабость по всему телу расползается. Клим угадывает настроение Сидора и уводит его от горна.
— Идем в жестяный,— говорит он,— там работают. Это, как говорят, самый живучий цех у нас: жестяные ведра, кружки, подойники делают и продают, жести у нас пока что хватает...
В жестяный Сидор отказался идти. Из кузнечного вышли во двор. Клим начал закуривать. Закуривая, заговорил:
— А от токарного ничего почти не осталось. Станки поляки забрали при отступлении, не было кому помешать им.
Клим лизнул кончиком языка папиросную бумагу, провел по папиросе пальцем, чтобы бумага приклеилась, и, подержав папиросу в зубах, взял, не закурив, опять в пальцы и закрутил кончик папиросы, чтобы табак не высыпался.
Закурил Клим, когда вышли из заводского двора на улицу.
Сидор посмотрел в открытую калитку на заводской двор. Двор снегом глубоким засыпан, позамел снег все прежние тропки, что были на дворе. Целые сугробы снега и на крышах. Все заметено.
— Много работы надо,— говорит словно про себя Сидор.
— И денег много,— добавляет Клим,— ой, как много денег надо будет...
— Оно так...
— А то как же? Отними у человека все, оставь с голыми руками, так он что ж? Ни при чем он тогда, пока кто-нибудь работы в руки не даст... И с заводом то же... Ни металла, ни угля, ни станков...
— А кто главный у нас теперь на заводе? — неожиданно для Клима спросил Сидор.
— Главный-то есть, но что из этого, смотрит только, чтобы не разворовали чего... Ну, да еще кое-какой заказ примет. Тут он и весь, наш главный, как говорят.
Так же неожиданно, как заговорил о главном, Сидор и попрощался. На прощанье Клим предложил:
— Приходи чаще, будем, как говорят, делать что-нибудь.
— Буду, буду приходить... Надо сделать, чтобы завод пошел.
— Вряд ли.
— Почему вряд ли? Сойдемся, поговорим и будем что-то делать...
— Что? Не такие заводы стали, а тут... Борюсь я, чтобы не закрыли совсем, как говорят, нашу лавочку...
— Не закроют, пойдет.
— Твои бы слова, как говорят, да богу в уши... Разве если бы взяться это...
Медленно, опираясь на костыль, Сидор пошел посередине улицы. А Клим постоял у калитки и опять вернулся на заводской двор.
III
Лукаш важно прошел в толпе крестьян и, крестясь на ходу, поцеловал в руках священника крест. Затем, расталкивая локтями женщин, направился через церковь к выходу. За дверью церкви, на широком, высоком крыльце, остановился, еще раз осенил себя крестом, глядя на сверкающий иконостас, и тогда степепно пошел с крыльца, надевая на ходу шапку.
У церковных ворот Лукаша ожидали односельчане. Вместе все они неторопливо пошли по дороге к своей деревне.
Из-за леса поднялась темная туча. Она медленно ползла навстречу и сердито ворчала. Тучу то и дело разрывали острые ломаные стрелы молний. Тяжелая, темная туча все ближе и ближе. Налетел и закружился по дороге, поднимая песок, сильный вихрь. За ветром упали первые крупные капли.
Лукаш глянул с опаской на тучу и, показывая рукой на ель, позвал:
— Идемте под ель. Под елью гроза не страшна.
Все заторопились к дереву, столпились вокруг толстого его ствола. Дождь закапал чаще, скоро светлые водяные нити потянулись от тучи до земли, устлали ее тонкой пеленой тумана. Чаще забегала по туче молния, сильней, где-то совсем близко уже, ударил гром. Лукаш снял шапку, перекрестился и шапки не надел. За ним перекрестились все, находящиеся под елью.
— От где сила божья,— начала разговор одна женщина,— побить, пожечь все может.
— Да так испепелит, что ничего не останется,— откликнулся на ее слова Лукаш.
— Говорят, много пожгло в Ложкове...
— Люди грешные стали, вот и жгет, и бьет,— опять вмешался Лукаш.— Вот еще, даст бог, и не так жечь будет.
— Что ты, Лукашка, пускай тех и жгет, которые грешат.
— А мы не грешим? Мы тем уже грешим, что грех вокруг себя терпим.
— Ох и правда оно,— опять откликнулась женщина,— боже ты мой, какая правда. Даем мы грешить. Батюшка в проповеди об этом говорил...
— А как красиво, как жалостливо говорил он,— вмешалась в разговор другая женщина,— говорит и аж плачет, бедный, за людей он.
— А ты понимай, потому что проповедь он не так себе говорил, а евангелие брал, чтоб мы посмотрели, нет ли уже того, о чем пророки говорили...
— Да есть уже, Лукашка, есть... Это ж и помор, и хворость разная, и разврат. Сын на отца пошел, гнезда сатанинские насаждаются...
— Неужто они все-таки займут двор? — спросил крестьянин, молчавший до этого.
— Коли дадим, так и займут,— ответил ему Лукаш.
— Такая землица, такая землица. Век бы навозу не надо было класть.
— Не удивительно. Так обработана: и деды, и отцы удобряли...
— А черт лысый пользоваться будет.
— Коли дадим, так будет.
— Известно... Дареному коню в зубы не смотрят.
— А как же им не дашь? — горячо спросил крестьянин.— Волость ведь за них.
— За них ли? Надо сходить поговорить.
— Известное дело, надо. А то воевали, братец мой, за землю, до революции на загоне одном душились, жизни не видели, а теперь опять. А где ж закон? Если земля панская, так, братец мой, мою долю мне дай, а на своей что хочешь делай, хоть черту лысому подари ее...
— Правду говорит. На своей части пусть хоть голову ломают, не то что коммуну делают.
Дождь прекратился. Гром гремел где-то далеко, и светило солнце. В свежих лужицах чистой воды весело искрились его лучи, обмывались.
Лукаш, не надевая шапки, степенно пошел из-под ели.
— Пойдем уже,— предложил он.— Я говорю, что делегацию нам надо в волость послать, из тех, кто на этой войне был.
— Надо.
— Чего ж? Вот Лукаша да еще двух-трех, и пускай сходят.
— Меня стоит ли? — отозвался Лукаш.
— Почему ж нет? Ты все знаешь про эту землю, все и скажешь в волости. Тебе надо пойти.
— Да оно все знаю, как и от кого земля эта...
А спустя день в кабинет к председателю волостного исполкома зашла делегация из пяти человек. Председатель поздоровался с делегацией, расстегнул воротник рубашки и, потирая ладонью шею, спросил:
— Ну, что вы ко мне, граждане?
Крестьяне переглянулись.
— С делом мы своим, за правдой.
Вперед немного выступил