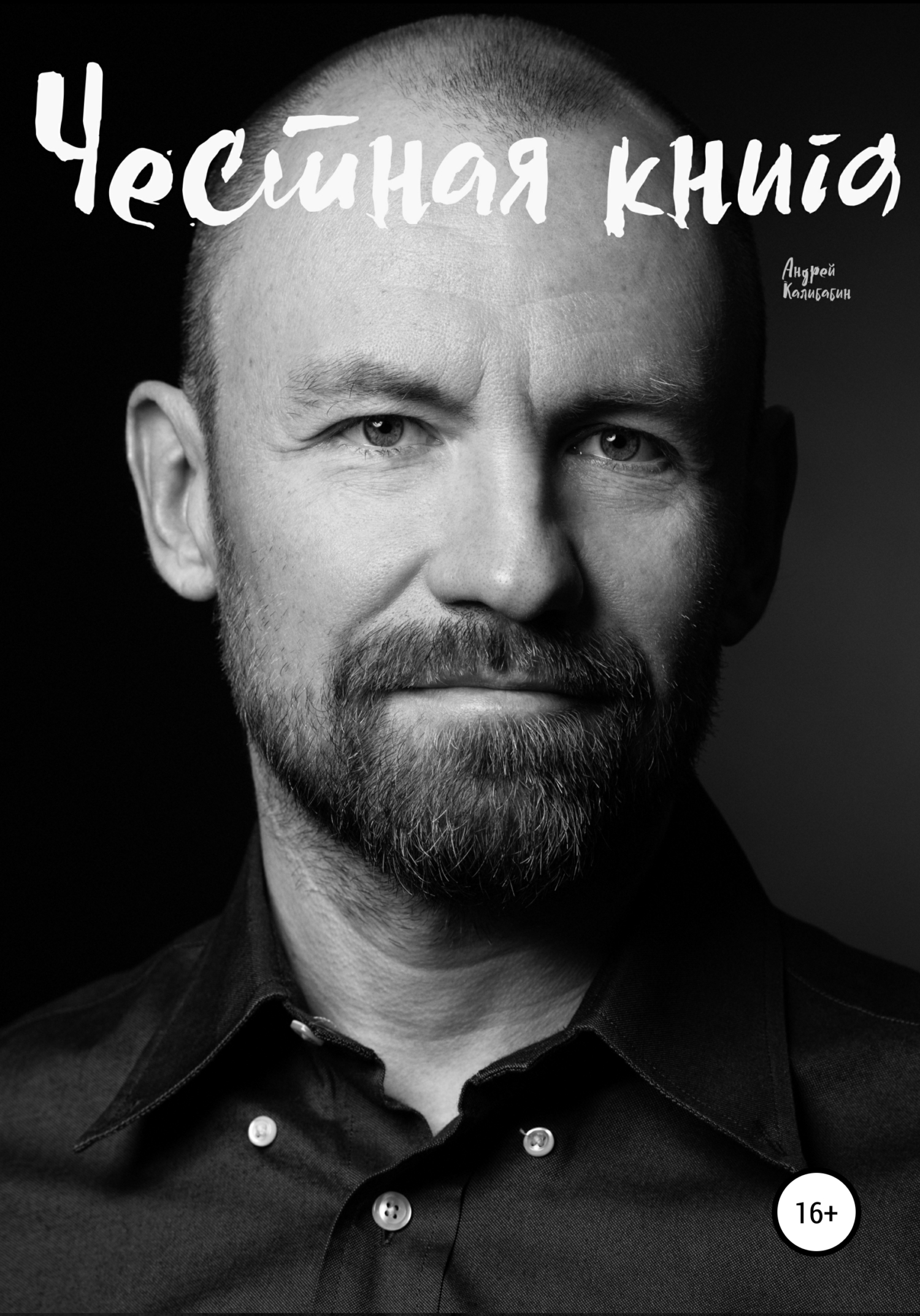половина ее прибита над воротами, а другую половину кто-то оторвал и загнул — заломал ее. Полоска ржавой жести свисла под ветром и стрясает с себя снег, постукивая в ворота.
— Вот уже который раз думаю оторвать ее,— говорит сторож Микола,— тревожит она меня, все кажется, что кто-то на завод пришел и стучит, а потом забуду. Вот так вспомню, когда застучит, потом опять забуду.
Он смотрит, что Сидор с костылем пришел, крутит головой и говорит:
— Навоевал, значит? Был человек, а теперь что ж, значит? Что ж тебе вот за это будет, что значит, покалечили тебя?.. С людьми, как с заводом. Был завод, а теперь двор пустой. Не понимаю, значит, я, что из этого будет.
— Завод заводом будет, а я и без костыля скоро пойду.
В деревянном доме, прежней конторе, сделали клуб.
Над дверью, выходящей на улицу, на широкой доске написано слово «клуб» и еще здания и трубы заводские нарисованы. Сидор засмотрелся на вывеску клубную, замолчал. Микола из кармана достал горсть табаку, зачерпнул его с ладони трубкой и стал по коробке чиркать спичкой. Скользит по коробке спичка, сдирает бумажку, намазанную серой, и не загорается. Взял спичку пальцами ближе к головке, прицелился, чиркнул. Спичка не загорелась, а сломалась.
— Тьфу, чтоб ты сгорела, окаянная! — И со злостью бросил сломанную спичку в снег, начал потихоньку чиркать другой.
— Это клуб наш,— объясняет он, закурив,— собрания тут разные, митинги. Сойдутся бабы, кричат, кричат, значит, что трудно жить, да на том и сядут, а в другой раз опять о том же.
Микола пальцем утаптывает потихоньку табак в трубке и жадно сосет ее, а затянувшись, как можно глубже, выгоняет сквозь ноздри дым.
— У тебя, дядя,— говорит Сидор,— из ноздрей дым валит, как из фабричной трубы...
— На заводе нет дыма,— ответил Микола,— и я, значит, пускаю так, чтобы люди думали, что из трубы это.— И смеется, вынув изо рта трубку.
Во дворе, сразу за воротами, складские здания завода. Теперь на складе лишь поломанные детали станков и куча разного железа и досок.
В складе перебирал деревянные бруски Клим. Он поднял голову навстречу Сидору, отбросил ногою брусок под стенку и пошел к Сидору, вытирая полою стеганки руки, чтобы поздороваться. Столяра Клима Сидор давно знал. Звали его на заводе не просто Климом и не по фамилии, а «Клим-ботва». Сидор вспомнил это и приветливо закивал Климу. Приподнял шапку. Приподнял шапку и Клим и, когда подошел, долго тряс Сидорову руку и улыбался. Но заговорили не сразу. Оба молчали, оба ждали друг от друга вопросов.
Микола дал Климу закурить и пошел в контору. Тогда Сидор, не дождавшись вопроса от Клима, хотел спросить:
«Ну, как живете тут, а?»
Но подумал, что не очень уж уместен этот вопрос, и поэтому проговорил:
— Так завод, значит, того, молчит...
— Молчит,— ответил Клим,— и мы не живем, а существуем тут вместе с ним... Я, братец, не знаю, как говорят, что делают и что мне делать, одним словом, как говорят, не по-моему все идет... А ты, наверное, посмотреть завод пришел?.. Идем, только не будет от этого тебе веселей. Еще в столярном цехе кое-что делаем да время от времени в кузнечном... Завод... Оглобли делаем, для повозок барахло разное, как говорят... В модельной оглобли делаем...
Модельная находилась сразу же возле склада в небольшом деревянном здании, и было в модельной теперь пара верстаков столярных да у стены груда досок. Столярный цех находился тоже в отдельном деревянном здании. А посреди двора длинный низкий кирпичный дом. Тут помещался кузнечный цех, литейный, токарный и жестяный.
В снегу, у двери литейного, валяются куски железа, какие-то отлитые давно уже детали.
— Убрать надо, а то ржавеет напрасно,— проговорил Сидор.
Клим не слышал. Он широко раскрыл дверь и ждал Сидора.
В литейном тихо, холодно и пусто.
«Точь-в-точь как в бараке тогда,— думает Сидор,— бросили, сбежали все, некому присматривать такое добро... А как же тот блондин, что он тогда делал, когда один остался? Его, наверное, перевели в другую больницу, а может, и других вернули опять в барак?»
В литейном, где когда-то плотными рядами стояли формы, теперь земля черная утоптана, на ней разбросанные валяются опоки, они поржавели, портятся.
У стены высокая круглая вагранка. Она давным-давно остыла. И совсем ненужной кажется канавка. В ней, на дне, застыл кусочками чугун. А некогда по канавке чугун бежал белым молочным ручьем. Его набирали в ковши и, торопливо бегая по литейному, разливали в формы. Это давно было. А теперь формы разбиты, и вагранка остыла.
В окне выбито стекло. Через дырку ветер намел в литейный снегу. Снег гладким хитрым зверьком лежит на черной земле литейного, не опасаясь, что кто-то придет и потревожит его.
С крыши свисают закопченные концы электрического шнура без патронов, без лампочек.
— Как на кладбище,— говорит Сидор. Ему тоскливо, и почему-то сильнее обычного болит нога. Клим ничего не ответил Сидору, пока не открыл дверь в кузнечный цех. И, когда открылось холодное и пустое нутро кузнечного цеха, он отозвался:
— Как на кладбище, брат...
А потом, придерживая дверь, сказал Сидору:
— А вот и твой цех, любуйся...
В голосе Клима злость.
— Что ж тут любоваться,— ответил Сидор,— любоваться нечем.
— Я к тому и говорю,— согласился Клим,— потому радости большой, как говорят, нету от всего этого. Несколько горнов на днях работали. Кое-что ремонтируем крестьянам... Не завод, а деревенская кузница...
Шеренгою стоят холодные горны. И они уже давно погасли. Сидор помнит свой горн, вон тот, в самом углу. В горне залежавшиеся мелкие угольки с песком смешаны, кто-то насыпал в горн желтого песка. Сидор пальцем копнул угли. Они плотно слежались. Взял уголь в пальцы и увидел, что он совсем уже обтерся, пальцы в сажу не пачкаются.
У горна кувалда. На земле рядом с кувалдой небольшие кусочки ржавого железа. Сверху на кувалде ржавые желтые пятнышки.
— Угля даже нету,— говорит Клим,— а то, может, что-нибудь и сделали б.
Посреди цеха небольшой паровой молот. Им ковали большие детали. Теперь он клюв свой подобрал, спрятал в нутро свое.
— Как на кладбище,— повторяет теперь уже Сидоровы слова Клим.— Все мертвецкое, что ж он вот, молоток этот, без пара, без привода...
— Как у нас в мертвецкой было,— говорит за ним Сидор,— темно, холодно и тихо. Лежат люди, но неживые, не шевелятся...
Опять еще