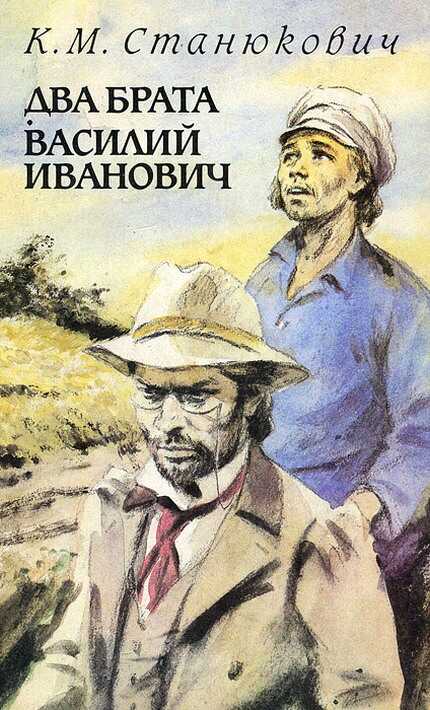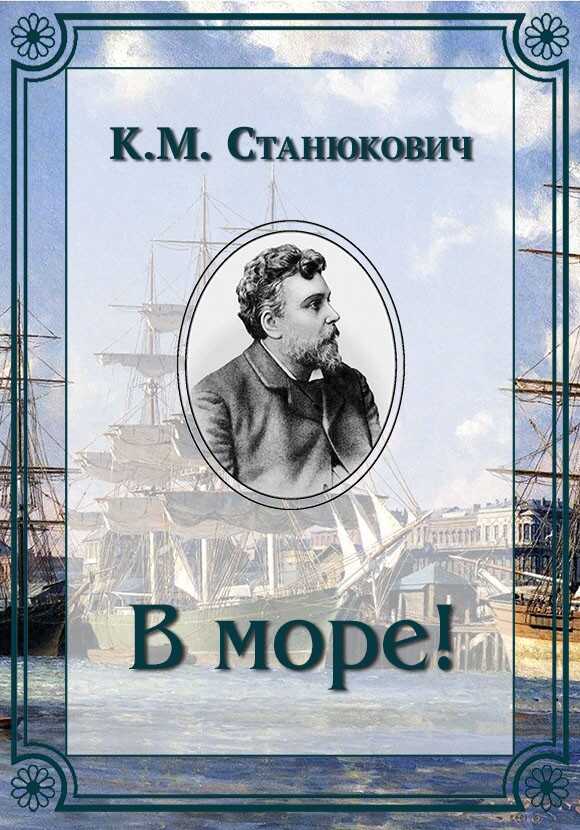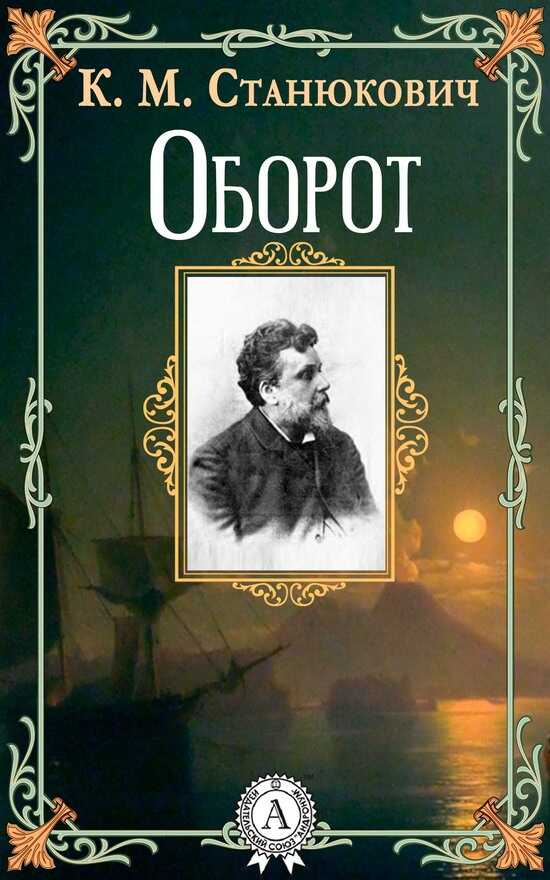Книга По понедельникам дома - Константин Михайлович Станюкович

- Жанр: Книги / Классика
- Автор: Константин Михайлович Станюкович
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
Сатирический этюд К. М. Станюковича о светских приемах, благородной публике, и нравах, царящих на таких «салонах». «По понедельникам мы всегда дома» — любит приговаривать хозяйка Марья Ивановна, приглашая гостей на свои журфиксы. У них по понедельникам «весело» и «непринужденно», — убеждает она, хотя от скуки, даже у самых благовоспитанных гостей сводит скулы от подавляемой зевоты: — «Чай давно отпит, фрукты подавали, обычные диалоги проговорены, а до ужина еще часа полтора, а то и два…»
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «По понедельникам дома - Константин Михайлович Станюкович», после закрытия браузера.