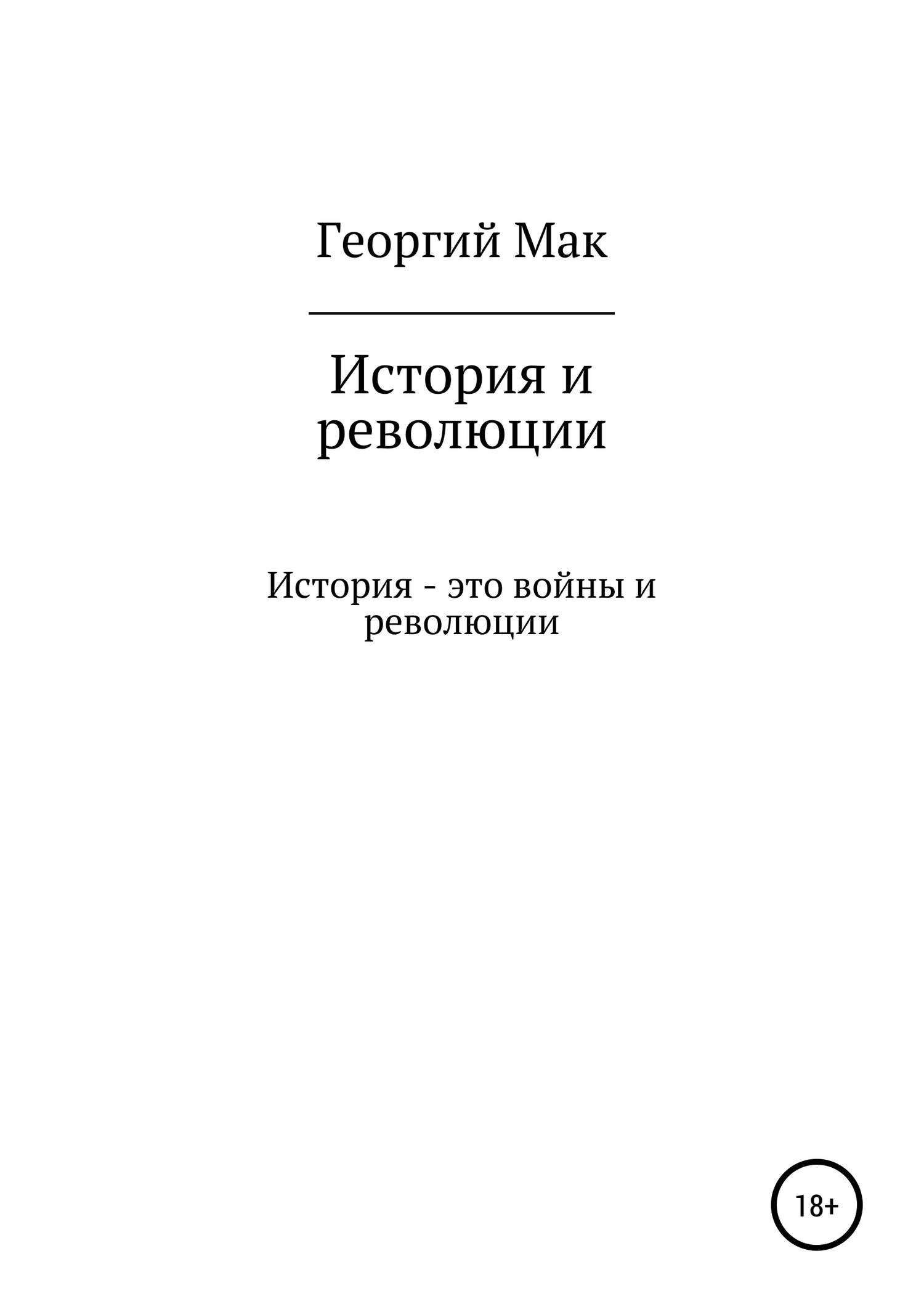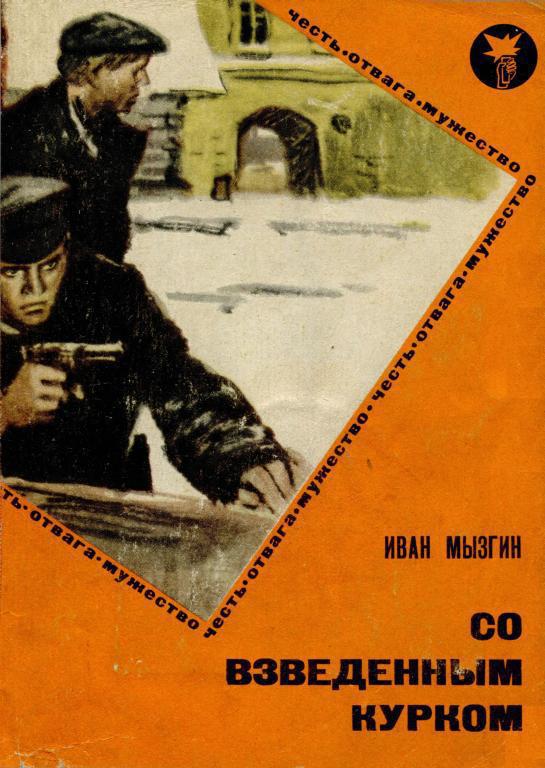class="p1">Интересно отметить, что когда в 30-х годах театр возобновил «Горе от ума», то трактовка образа Чацкого была уже совсем другая. Чацкий приобрел тон смелого и решительного героя. Он совсем не побежден, он только в этой первой стычке с обществом потерпел поражение. Но он полон сил бороться дальше. Покидая Москву, он не смирился, он протестует, он негодует. Почти угрожает: «Вон из Москвы!.. Карету мне. Карету!!..» Последние слова он почти кричит. И насколько сам Чацкий-Качалов в 1938 г. повзрослел, или вернее постарел! На генеральной репетиции он не вбегает к Софье (правда, художник сделал неудобную, крутую лестницу на антресоли, где комната Софьи), а почти влезает, запыхавшись, и с трудом поднимается с колен после слов: «Чуть свет – уж на ногах, и я у ваших ног». Тем не менее, зрительный зал шумно аплодирует, приветствуя маститого актера, нарушая тем самым традицию театра. Впрочем, традиция была уже давно нарушена. В 1921 или 1922 г. мне как-то пришлось быть по делу у администратора МХАТ Румянцева. Он принял меня в кабинете Станиславского. Толстый серо-зеленый ковер на полу. Серые суконные портьеры. Тяжелая ампирная мебель красного дерева, обитая серым сукном. Матовый свет, тишина, разговор в полголоса, во время которого я замечаю, что Румянцев все к чему-то прислушивается. «Что-то скребется. Вы не слышите?» – «Мыши наверно», – замечаю я. – «Мыши?! Мыши в Художественном театре?! Мыши в кабинете Константина Сергеевича!!! Нет, это слишком!» Румянцев бросается искать мышей под диван. Я школьничаю и тихонько скребу ногтем кресло, на котором сижу. «Вот опять! Слышите?» – и бедный Румянцев ползком по ковру бросается в другую сторону. Я скребу стол. Румянцев прислушивается. Встает и молча возвращается на свое место. У него взволнованный голос. Мрачное выражение лица. Мысли где-то витают. Он не слушает меня и очень доволен, что я быстро кончаю нашу беседу. Уходя, я вижу, что Румянцев совсем подавлен. Еще бы! Мыши в МХАТе! Что скажет княгиня Марья Алексеевна?! Румянцев не знает, разрешает ли традиция иметь МХАТу мышей. Укладываются ли мыши в идейный профиль театра? Что-то было фальшивое, неприятное в этом профиле. Прежде всего, необычайное купецкое самодовольство и зазнайство. Вот какое мы, московское купечество. Все могим. Нашему капиталу все подвластно. Угодно суконный трест? – пожалуйте. Хотите – камвольную фабрику, первую в России? – получайте. Хотите лучший театр? – вот он. Лучшее в мире собрание французских импрессионистов? – у Ивана Абрамовича Морозова. Лучшая картинная галерея – П.М. Третьякова (мануфактура). Первый в мире музей театрального искусства – на Зацепе у А.А. Бахрушина (кожевенное производство). Первая в мире теория сценического искусства – К.С. Алексеева[103], председателя правления камвольного треста.
У Сергея Александровича Попова[104] был написан весьма солидный труд: «Роль московского купечества в развитии русской культуры». Для печати он не предназначался. Да и ни одно наше издательство не согласилось бы напечатать книгу, прославляющую купеческое сословие за его прогрессивную деятельность. В этой деятельности много было противоречивого и странного. Почитайте, что писал Тихонов (Серебров) о С.Т. Морозове, что написано о С.И. Мамонтове. А что еще не написано о К.С. Станиславском! А может быть уже и написано, но не может быть напечатано. А рассказано тоже много.
«Почему он моргает все время, как обезьяна?» – писал про Станиславского Буренин. И это верно. В Москве никто не осмелился такое написать про создателя МХАТ. Ну, а Буренин, рецензент «Нового Времени», газеты, враждебной всему прогрессивному и всему не петербургскому, – он мог писать, что хотел. Действительно, Станиславский моргал как-то особенно: медленно опуская и поднимая веки. Такая манера или привычка могла быть уместной только в некоторых ролях, где надо было создать образ самоуглубленного, сосредоточенного человека, как, например, Ракитин или Штокман. Но Фамусову, Сатину и особенно Астрову не надо было так моргать. Это мешало зрителю и воспринималось как неприятный жест или навязчивый нервный тик. Не мешало такое моргание в ролях комедийного плана, как граф в «Иванове», граф в «Провинциалке». Да, комедия была родной сферой этого артиста. Вполне верю, когда говорят, что кавалер Рипофратта была его лучшая роль.
Много интересного мог рассказать о К.С. Станиславском хорошо его знавший с детских лет С.А. Попов. Он же был, вместе со своим братом Н.А. Поповым, деятельным участником литературно-художественного кружка, руководимого Станиславским в 90-х годах. Кроме того семьи Поповых и Алексеевых были связаны самыми тесными дружескими отношениями, по-видимому, на почве общих коммерческо-торговых интересов. Алексеевы были крупные шерстянщики-камвольщики (фабрика в Даниловской слободе, в Замоскворечьи), а Поповы – старинные суконщики. Им принадлежала известная «Лоскутная» гостиница в Охотном ряду, вернее – в самом начале Тверской. Этот квартал теперь снесен, образуя площадь.
В школьные годы (1880-е) у Алексеевых в доме ставились любительские спектакли, в которых принимали участие и братья Поповы. Попов отмечал у Станиславского удивительный талант организатора и крупного дельца. Не без сарказма и горечи он указывал на то, что эти прозаические способности удивительно переплетаются у Станиславского с высокоразвитым художественным чувством и артистическим мастерством. И эта его художественная натура артиста Станиславского постоянно вступала в конфликт с купцом Алексеевым. Вот пример: когда в 1905 г. открывался театр-студия МХТ на Поварской, где С.А. Попов был администратором (по совместительству с основной своей должностью председателя правления суконного треста Поповых), то желая сделать приятный сюрприз Константину Сергеевичу, он заказал большое живописное панно тогда еще совсем молодым начинающим художникам Сапунову и Судейкину. За работу Попов уплатил художникам гроши, всего 75 рублей. Панно все признали великолепным и поместили на стене верхней площадки входной лестницы театра. Тогда Попов пригласил посмотреть панно и Станиславского. Тот в восхищении долго смотрел на панно и шептал: «Ах, как хорошо! Ах, какая прелесть!» – и вдруг, повернувшись к Попову с исказившимся страхом лицом, с широко раскрытыми глазами испуганно вскричал: «Но, позвольте, сколько же вы за него заплатили? Вы же знаете, что у нас нет денег на такие непроизводительные расходы!» – «Не волнуйтесь, Константин Сергеевич, всего 75 рублей.» – «Ну тогда другое дело», – и, повернувшись к панно, опять начал восхищаться им. Художнику Станиславскому панно очень понравилось, а купец Алексеев испугался непроизводительного большого расхода. Здесь большой артист и художник чуть не забыл, что он директор Даниловской камвольной мануфактуры. Но кровь предков-дельцов вовремя напомнила ему о себе. И надо думать, что эта кровь прижимистого и расчетливого дельца не раз руководила поступками и деятельностью всемирно известного главы Московского Художественного театра.
Интересные подробности о возникновении этого театра-студии на Поварской поведал мне как-то Борис Константинович Пронин, очень известный организатор артистического кабаре «Бродячая собака» в Петербурге, а потом