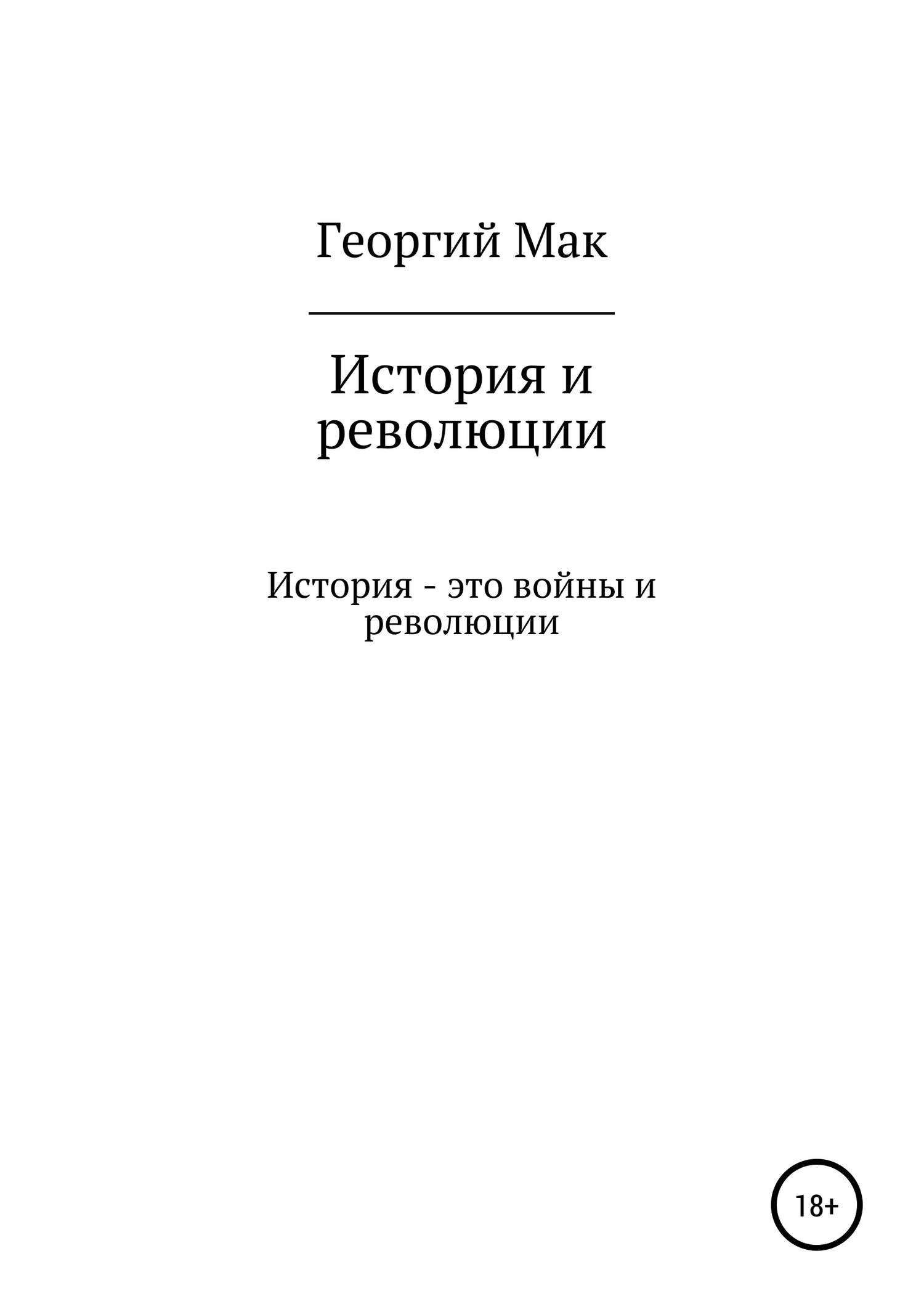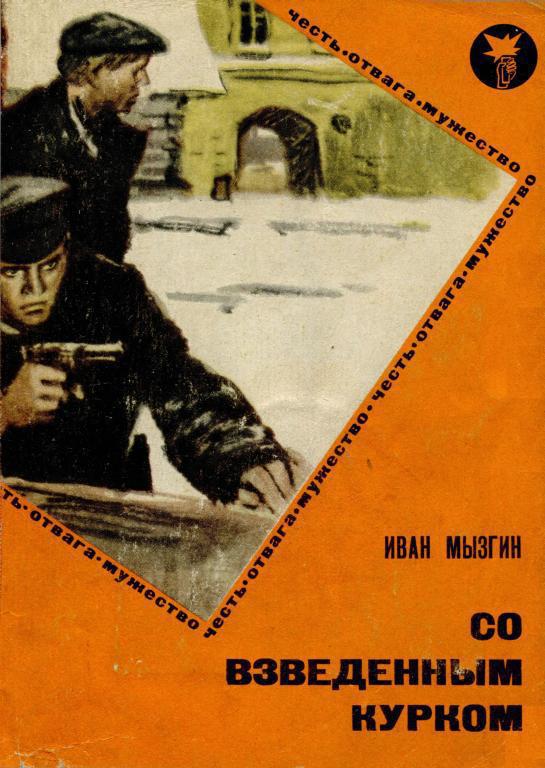в целом в коллективе артистов Москвы, в котором Адамович занимает одно из первых мест.
1940-е гг.
МХАТ и Станиславский
1904 год. Как-то мать отчима, В.Ф. Голицина[100] предложила посмотреть в МХАТе[101] пьесы Метерлинка «Слепые» и «Непрошенная» – спектакль, о котором много писали. До этого у нас часто говорили о «Юлии Цезаре». Мать считала, что ничего лучше она в театре не видала, и что только реализм некоторых сцен производит неприятное впечатление, заставляя зрителя волей или неволей принимать участие в сценической жизни действующих лиц. Это верно. В этом театре было не очень приятно сидеть слишком близко к сцене, которая ничем не отделялась от зрительного зала. Было совсем неловко наблюдать происходящие на сцене события интимные, находясь в каких-нибудь трех-четырех шагах от действующих лиц. Театр переставал быть театром и делался подлинной жизнью. Так было со всеми спектаклями, которые я видел в МХАТе до революции. Позднее из него жизнь куда-то ушла, и остался один театр. И сидеть близко к сцене стало совсем удобно, и я не испытывал никакого стеснения, наблюдая любые драмы, которые актеры «представляли» и «разыгрывали» на сцене. Спектакли в МХАТе давали какую-то удивительную эмоциональную зарядку, повышали жизнеутверждающий тонус жизни, давали радость жизни. Это было высокое мастерство сценического искусства и торжество режиссерского уменья.
Любопытно, что Ленин, посмотрев после революции спектакль МХАТа «На дне» говорил, что этот театр потерял присущий ему раньше секрет воздействия на зрителя, что спектакль стал холодным.
Л.В. Москвина, племянница В.Ф. Голициной, дочь ее брата, Василия Федоровича Гельцера достала нам ложу. Нужно ли говорить, как поразил меня внешний вид и особый порядок этого театра. Все там было скромно и строго. Никакого золота и бархата, что считалось принадлежностью всякого театра, не только императорского. В отделке основным материалом являлось дерево. Кресла, ярусы, панели стен – все деревянное. Темный серо-зеленый раздвижной занавес с белой чайкой. Грубоватые швейцары и капельдинеры (совсем не подобострастно-почтительные, как в Малом театре), – говорившие шепотом и ходящие неслышной походкой. Надо сказать, что лица их были мало приветливые, а обращение со зрителями и совсем неприветливое. Они довольно бесцеремонно, командирским тоном указывали зрителям, куда им идти, где стоять, как разговаривать. Это было неприятно особенно там, где «театр начинался с вешалки». А.К. фон Мекк, мой дядя, говорил, что он не ходит в Художественный театр и не ездит на московском трамвае из-за грубых замечаний капельдинеров и кондукторов, указывающих ему, как надо стоять, ходить, сидеть. Впрочем, в этом театре все было как-то неуютно обставлено. Строго и холодно. Разве можно было сравнить его с Малым театром, с его интимным, «домашним» зрительным залом, с его милыми, приветливыми, добродушными старичками-капельдинерами. Тепло прежде всего – это качество, присущее театру Щепкина.
Когда раздвигался занавес в МХАТе, то зрительный зал замирал от ожидания: какие еще чудеса покажет режиссер? Какие чудеса театральной техники сейчас увидит зритель? Сначала поражало именно внешнее оформление спектакля, его подлинность, мелкие детали быта.
В МХАТе никогда не было больших артистов, как это было в Малом театре. В МХАТ ходили смотреть спектакли в целом, а в Малый шли смотреть Ермолову, Лешковскую, Садовскую, Ленского, Остужева. Я не помню, кто играл Петровну в «Месяце в деревне», но не могу забыть великолепный сочный образ стареющей стервы, созданный М.Г. Савиной, – хотя в МХАТе Тургенев был подан с необыкновенным вкусом и изяществом. В этом театре не было никого, кто мог бы увлечь зрителя. Вот Орленева и Дальского ходили смотреть в «Федоре Ивановиче», а Москвин, в той же роли, растворялся в великолепном спектакле в целом, растворялся в коллективе. Метерлинк, как он был показан в МХАТе, произвел на меня громадное впечатление.
С тех пор прошло больше шестидесяти лет[102], но я очень отчетливо помню самые мелкие подробности этого спектакля. Его мистический тон и мрачная символика наводили на меня ужас. Моя мать говорила, что ничего страшнее она в театре не видела. Мне удалось посмотреть его дважды. Но у московской публики он особого успеха не имел. В нем не было, конечно, никакой «тенденции» и «политики», но только очень ярко поданое настроение ужаса действующих лиц. Уметь создать «настроение» – стало стилем этого театра. Уменье безукоризненно показать стиль эпохи пьесы тоже стало привилегией этого театра. Я затрудняюсь сейчас сказать, что из виденного мною тогда в МХАТе было лучше, но, пожалуй, наиболее сильное впечатление осталось от «Дяди Вани», «Привидений», «Синей птицы». «Дядю Ваню» я смотрел три раза, и каждый раз удивлялся тому, как поразительно вкусно и с необычайно художественным мастерством показал театр это далеко не первоклассное сценическое произведение Чехова. Позднее я эту пьесу смотрел еще в других театрах и принуждал себя досиживать до конца, только затем, чтобы лишний раз убедиться, что Чехова можно было смотреть только в театре… им. Горького (какой абсурд!).
Интересным спектаклем была «Жизнь человека». Как и полагалось в те годы, он был сделан в самых мрачных тонах. Спектакль шел на фоне черных бархатных стен.
Очень много говорили и шумели тогда по поводу «Горе от ума». Декорации писал Добужинский. Получилась замечательная Грибоедовская Москва. Пожалуй, только вряд ли все в доме Фамусова было такое новое, чистое и нарядное. У господ-дворян в домах было грязновато и не так уж красиво. А вот купеческие дома действительно блистали и поражали чистотой, порядком и богатством. Фамусову-Станиславскому, купцу Алексееву, далеко было до природного аристократа Ленского-Гагарина. Старого барина у Станиславского не получилось. Это был глава торгового дома, но не помещик-дворянин, московский старожил с арбатских переулков. Да и был он грубоват: Фамусов с Большой Ордынки, но не с Пречистенки. Ничего дворянского не было и в Софье. Слишком была она интеллигентна. Артистка играла современную нам Софью, а не капризную, кисейную девицу дворянской крепостной Москвы.
И Чацкий-Качалов был не тот темпераментный, живой энтузиаст, сподвижник декабристов, если не сам будущий смелый участник драмы 14 декабря. Слушать Качалова, как всегда и везде, было наслаждение, но тоже, как всегда, его герой был лишен необходимого для этой роли жара и сценического пыла. Чацкий-Качалов выглядел очень корректным интеллигентным юношей, московским студентом, сынком из хорошего общества. По Художественному театру это общество подавляет Чацкого, испепеляет его и мешает его активности. Он побежден и раздавлен. Тогда, в 1908 г., Чацкий в финале свой монолог: «Вон из Москвы…» произносил совсем подавленным тоном. Он поражен, он разбит нравственно и физически. Он задыхается, едва может выговорить: «Карету мне, карету». Чацкий уничтожен, Фамусовы торжествуют.