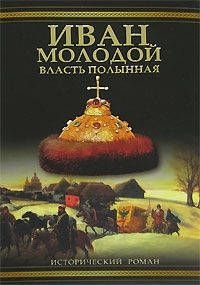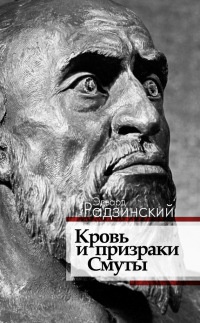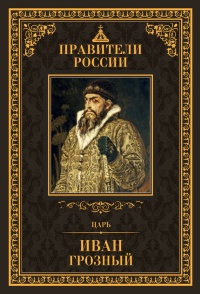в Астрахани, насильства никакого не было бы, и дорога в наше государство изо всех земель не затворилась бы, и нельзя ли нам из своей руки посадить в Астрахани ханского сына?»
А тем временем собраны были уже три полка ратников под началом Ивана Андреевича Шуйского. Они двигались к Оке и встали там укрепленным лагерем. На окраинах стоял густой дым – по приказу царя Михаил Воротынский жег поля, дабы при случае нового наступления хана лишить вражеских лошадей корма. Да и двигаться по сухой выжженной степи – верная смерть.
Москва же, очищенная от трупов и куч сгоревшего мусора, зазвучала стуком топоров, отстраиваясь заново. Тянулись понемногу туда заведомо ушедшие из столицы и переселенцы из других мест.
– К чему все отстраивать, ежели скоро татары опять придут и все сожгут, – ворчали одни, не прекращая, впрочем, работу.
– Заступится Богородица! И государь нас защитит, выстоим! – отвечали другие.
Вновь из пепла возрождалась великая Москва…
* * *
Удушливый запах гари. Разинутые в истошных криках рты бегущего люда. Его сметает к реке, несёт, и вскоре он оказывается в воде. Выбраться нельзя – его сминают и топчут. Приложив все усилия, вскидывает из темной воды голову и с хрипом хватает воздух, но вскоре снова оказывается в воде. И вот конец уже близок, но этот безымянный ратник в черной одежде (опричник!) выхватывает тонущего, и тут князь просыпается.
Этот страшный сон снился Ивану Федоровичу Мстиславскому снова и снова, в точности передавая последние минуты перед тем, как он в давке лишился сознания и едва не погиб. Захотел перевернуться с затекшей спины на бок, но все его кости сковала неимоверная ноющая боль, от которой темнело в глазах, и князь тихо застонал. Тут же перед газами появилось лицо старшего сына Федора.
– Пить, батюшка? – озабоченно спросил он. Мстиславский глухо ответил:
– Вели принести лоханку, умыться хочу…
И, умывшись, долго глядел на свое отражение. Голова обрита, пришлось состричь и жалкие остатки обгоревших бровей и бороды. Ожоги уже покрылись корками – помогли лекарские мази.
– Лекарь сказал, что кости твои целы, значит, жизни твоей уже ничего не грозит, – робко проговорил Федор, с сожалением и трепетом глядя на батюшку, который без черной с проседью бороды, без густых дугообразных бровей и волнистых волос казался жалким и словно чужим.
– Ведаю, – хрипло отозвался Иван Федорович и отдал лоханку прислуге. Хотел было Федя спросить про их великолепный терем в Москве, надеялся, что хоть что-нибудь осталось от него, ибо из Москвы прибыли посланные князем люди (вся семья Мстиславского до прихода татар была вывезена в Малый Ярославец, где было их имение), но не осмеливался напомнить отцу о тех страшных мгновениях, что пережил его родитель. К тому же люди князя привезли печальную весть о смерти Марфы Васильевны, сестры Мстиславского. Все еще слабого князя старались уберечь от этой вести, но он сам долго выпытывал о судьбе Марфы, и люди его не выдержали, поведали, что погибла она вместе с мужем, князем Бельским. Иван Федорович словно готов был к тому, мужественно и стойко пережил это известие, однако выслал всех и велел до утра к нему не входить – может, ночью, оставшись наедине, он оплакивал любимую сестру…
Понемногу князь превозмогал мучения и пытался расходиться, дабы прийти в себя, будто чувствовал, что скоро государь призовет его. И чутье опытного царедворца подсказывало, что за поражение под столицей и гибель Москвы отвечать придется ему. А чтобы беременная жена Настасья не волновалась за него, при ней и вовсе не показывал, что ему больно и тяжело, натягивал улыбку и успокаивал: «Все хорошо, видишь, живой…»
Все силился вспомнить своего спасителя, дабы узнать о его судьбе, а коли жив – наградить, но помнил лишь черный кафтан опричника, и больше ничего.
Вскоре до него дошли вести, что в слободе казнены опричные воеводы, обвиненные царем в гибели столицы. Тут опасения Ивана Федоровича возросли – а вдруг и его ждет такой конец? Но государь пока не призывал его, и время ожидания тянулось особенно тяжело. И день, которого он ждал, пришел – ему было приказано ехать в слободу.
Ревела взахлеб жена Анастасия, хныкала дочурка Настасьюшка, глядели на него, сдерживая слезы, сыновья Федор и Василий; понимали, чем может все обернуться. И Иван Федорович прощался с ними, будто навсегда, но сам был тверд, держался прямо, жене прошептал несколько ласковых слов на ухо, пытаясь успокоить, сыновей даже потрепал по вихрастым головам. Такой и стоял пред ними – строгий и спокойный, одетый в парчовый приталенный кафтан, застегнутый на все петлицы и перетянутый кушаком в поясе. Уходя, не оборачивался. Несмотря на еще не утихшие боли во всем теле, поехал в седле. За ним неотступно ехала вооруженная стража князя.
Покачиваясь в седле, думал о том, что, наверное, Богу следовало бы пощадить такого ревностного христианина и служителя царскому престолу. Всю жизнь, не жалея пота и крови, защищал землю русскую и народ православный. Но Бог, несмотря на заслуги его, испытывал князя. После казни Александра Горбатого-Шуйского умерла его дочь Ирина, первая жена Мстиславского. Следом умерли три малолетних сына – Иван Большой, Иван Меньшой и Петр. Пока шли казни, производимые государевым опричным окружением, князь Мстиславский поочередно хоронил своих сыновей…
С такими мрачными мыслями князь подъезжал к слободе. И понял, что опасения его были не напрасными – его встретил конный опричный отряд и объявил, мол, государь велел князя Мстиславского взять под стражу. Иван Федорович оглянулся на растерянных своих людей, медленно слез с коня (спрыгнув, стиснул зубы от боли), перекрестился и, взглянув исподлобья на опричников, проговорил:
– Ведите!
Но, на удивление, его не отвели в мрачную, пахнущую кровью и сыростью темницу к Малюте, а в избу, где за письменным столом в скудно обставленной, но светлой горнице его дожидался какой-то сухощавый дьяк, который с почетом поклонился знатному «изменнику».
– Здравствуй, князь! Я Петр Михайлов, с Разрядного приказа, – поприветствовал его дьяк и пригласил сесть напротив него. Молча Иван Федорович опустился на скамейку и глядел, как дьяк расставляет на столе письменные приборы.
– Мурза Абысланов, состоящий на службе царю уже третий год, пытался при нашествии татар перейти в их стан. Что тебе, князь, о том известно?
Мстиславский сдвинул брови и, пожав плечами, ответил с равнодушием:
– Ничего.
– А он при пытках утверждал обратное, что ты и кравчий опричной Думы Федор Салтыков приказали ему это сделать. – Дьяк внимательно глядел на князя, и тут было заметно, что левый глаз его немного косил. Мстиславский засопел, стиснув зубы.