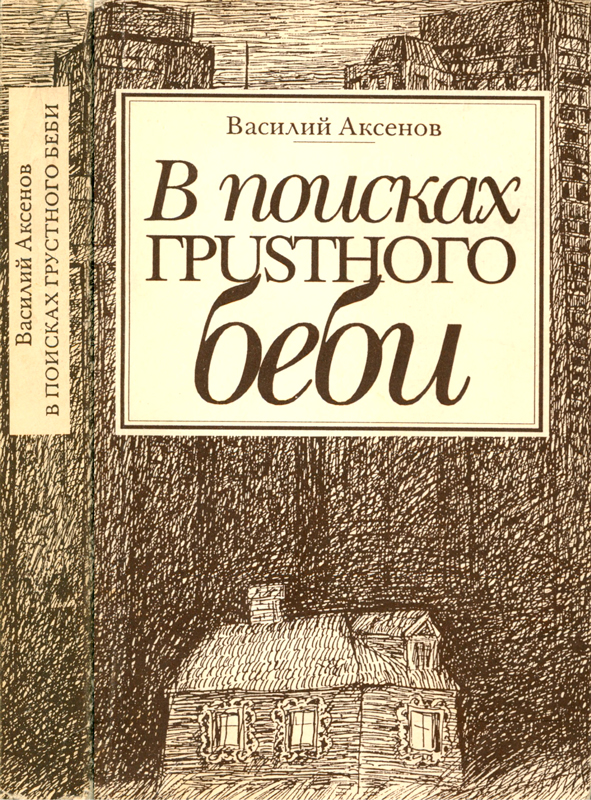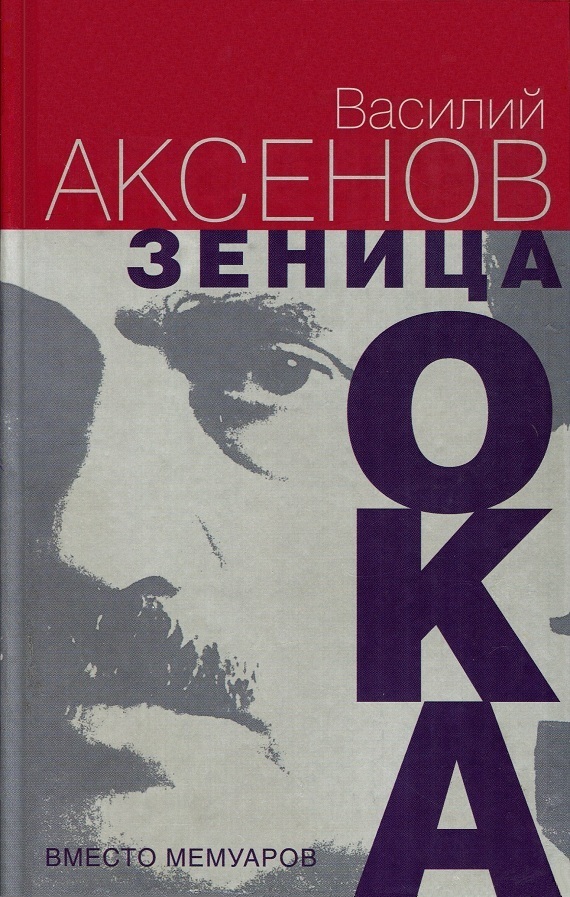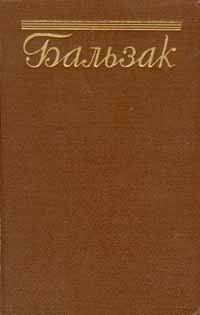ваш муж жив!
Молоденькая дамочка плакать перестала, испуганно и часто кивала Цецилии, как бы говоря: «Да-да, жив, жив, только, пожалуйста, не повышайте голос!» Вторая же, круглолицая, с вызовом закусив папиросу, молча смотрела в сторону; в ней чувствовался враг.
Приблизившиеся несколько женщин обменялись понимающими взглядами. Одна добрая старушка взяла Цецилию под локоть: «Да ты не убивайся, милочка, жив, значит, жив, на все воля Божия. — Она повернулась к окружающим, взиравшим на разгорячившуюся ученую еврейку, и пояснила: — У ей посылки не принимают, вот какое дело».
Цецилия отдернула руку, еще более возмущенная: значит, ее уже заметили завсегдатаи этих очередей, значит, уже знают, что… Ах, какой позор уже в самой общности с этими обывательницами, какой позор!
— Если вас не извещают о смерти родственника, значит он жив! — выкрикнула она, все еще пытаясь держать апломб. — Есть закон, есть порядок, и не надо распространять вредные сплетни!
Через несколько часов, пройдя все переулочные изгибы, она вышла под сень километровой тюремной стены, в самом начале которой наклеен был плакат с огромным кулаком, занесенным над рогатой фашистской каской. Большие черные буквы доносили до народа уверенное сталинское изречение: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
«Сколько силы всегда чувствуется в его словах, — думала Цецилия. — Какая весомость! Какое было бы счастье, если бы дело Кирилла когда-нибудь дошло до него, и он отменил бы позорный приговор, и мы вместе с моим любимым отправились бы на фронт, где и Митенька наш уже сражается, и защищали бы Родину, социализм!»
Висевший над стеной репродуктор пел, как в мирное время: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля!» Дело между тем шло не к рассвету, а к закату, за стеной было совсем темно, женщины изнемогали. Цецилию подташнивало от голода: как всегда, она забыла прихватить с собой что-нибудь съестное, и, как всегда, нашелся кто-то добрый, предложил ей печенья. На этот раз это была та самая зловредная круглолицая баба в берете. Развернув Цецилино любимое «Земляничное», протянула на открытой ладони: «Ешьте!»
Цецилия взяла один за другим три ломтика дивного рассыпчатого продукта, с неловкой благодарностью взглянула на женщину:
— Вы уж извините, может быть, я слишком погорячилась, но…
Женщина отмахнулась от извинений:
— Да я понимаю, у всех нервы… берите еще печенье. Курить хотите?
Цецилия вдруг поняла, что знает эту особу, что она вроде бы даже принадлежит к ее «кругу».
— А у вас, простите, муж тут?..
— Ну разумеется, я — Румянцева, вы же меня знаете, Циля.
Цецилия ахнула. И в самом деле: Надя Румянцева из расформированного Института красной профессуры! А муж ее был видным теоретиком, ну как же, Румянцев Петр, кажется, Васильевич. Его еще называли «в кругах» — Громокипящий Петр! Пережевывая остатки «Земляничного», Цецилия поймала себя по крайней мере на трех грехах: во-первых, вступила в контакт с очередью, хоть и зарекалась никогда этого не делать; во-вторых, подумала о Петре Румянцеве не как о враге народа, а просто как об очень порядочном теоретике марксизма-ленинизма; в-третьих, подумала о нем в очень далеком прошедшем времени, «был», как будто вошедший под эти своды уже не вполне и существует, а значит, и он, ее любимый, ее единственный свет в окне, ее мальчик, как она всегда его мысленно называла, тоже не вполне существует, если не…
К окошку она подошла совсем незадолго до закрытия. Там сидела женская особь в гимнастерке с лейтенантскими петлицами.
— Фамилия! Имя! Отчество! Статья! Срок! — прогаркала она с полнейшим автоматизмом.
— Градов Кирилл Борисович, 58–8 и 11, десять лет, — трепеща пробормотала Цецилия, просовывая в окошко свой кулек.
— Громче! — гаркнула чекистка.
Она повторила громче любимое имя с омерзительным наростом контрреволюционной статьи. Чекистка захлопнула окошко: так полагалось, чтобы не видели, каким образом производится проверка. Потянулись секунды агонии. Менее чем через минуту окошко открылось, кулек был выброшен обратно.
— Ваша посылка принята быть не может!
— Как же так?! — вскричала Цецилия. Белая кожа ее немедленно вспыхнула, веснушки придали пожару дополнительно будто потрескивающего огня. — Почему?! Что с моим мужем?! Умоляю вас, товарищ!
— Никакой информацией не располагаю. Наводите справки, где положено. Не задерживайтесь, гражданка! Следующий! — бесстрастно и привычно прогаркала чекистка.
Цецилия совсем потеряла голову, продолжала выкрикивать что-то совсем уже не подходящее к моменту:
— Как же так?! Мой муж вообще ни в чем не виноват! Он скоро будет освобожден! Пойдет на фронт! Я протестую! Бездушный формализм!
— Проходите, гражданка! Не задерживайте других! — вдруг резко, со злостью прокричал сзади голос молодой женщины, что рыдала утром по поводу «осуждения без права переписки». Очередь зашумела, сзади надавливали. Цецилия совсем уже потеряла голову, схватилась за полку перед окошком, пыталась удержаться, визжала:
— Он жив! Жив! Все равно он жив! Назло вам всем!
На шум подошел один из двух дежуривших у дверей брюхатых сержантов, ухватил шумящую еврейку за оба плеча, рванул, оттащил от окна.
Было уже совсем темно, когда Надежда Румянцева выбралась из тюремной приемной, и тоже ни с чем, вернее, с тем же, с чем пришла, — с пакетом продуктов для мужа.
Проклиная про себя «коммунистическую сволочь» (вчерашняя комсомолка, став жертвой режима, и не заметила, как быстро докатилась до белогвардейских словечек), она потащилась к трамвайной остановке и вдруг увидела в маленьком скверике сидящую на скамье, расплывшуюся в полной прострации Цилю Розенблюм. На коленях у нее были листки, покрытые расплывшимся чернильным карандашом, — единственное за все время письмо, пришедшее от Кирилла.
Надя присела рядом. Она почему-то сочувствовала этой «оголтелой марксистке» (опять какое-то антисоветское выражение выплывает неизвестно откуда), хотя и обижалась, что при прежних встречах в очереди у Лефортово та ее в упор не замечала.
— Ты еще счастливая, — вздохнула она, — тебе пишут.
Цецилия вздрогнула, взглянула на Надю и вдруг уткнулась ей, малознакомой женщине, в плечо.
— Это еще в тридцать девятом, — бормотала она. — Единственное письмо. Одни общие фразы.
Надя повторила: «Ты еще счастливая», хотя и слукавила, она от «своего» получила за три года все-таки три письма. Неожиданно для себя самой она погладила Цецилию по волосам. Откуда эти телячьи нежности? Обнявшись, обе женщины в охотку зарыдали.
— Почему они не принимают посылки, Надя? — спросила потом Цецилия.
Румянцева привычно оглянулась, в те времена оглядывался любой советский человек, перед тем как произнести более или менее энергичную фразу.
— Эх, Циля, может быть, просто не знают, где эти люди. Не удивлюсь, если у них там такой же бардак, как везде.
Они поднялись и тяжело поплелись к трамваю, словно две старухи, хоть и были еще