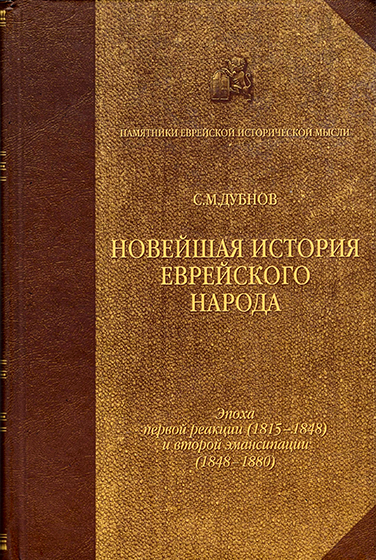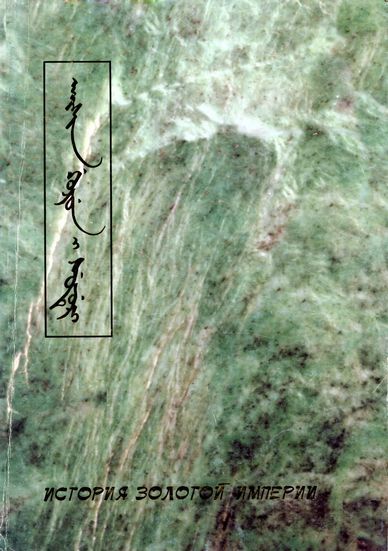мучимый тревогой и возрастающим чувством беззащитности. Завтрак такой же обильный и вкусный, как и вчерашний ужин, так что я немного успокаиваюсь. Хорошая еда всегда действует успокаивающе.
В начале десятого я встречаюсь с человеком из иммиграционной службы. Только теперь, во время долгого и утомительного допроса, я в полной мере осознаю, что шаг, сделанный мной, окончателен и бесповоротен. К прошлому возврата нет, дверь в ту жизнь, которой я жил, будучи студентом в Лодзи, закрыта навсегда, а мои планы на будущее потеряли всякое значение. Я понимаю это умом, но не чувствами. Этот разрыв между интеллектуальным и эмоциональным восприятием действительности, преследующий меня всю жизнь, создает как бы раздвоение личности, амбивалентность, что, к сожалению, повлияло на развернувшиеся в этот день события.
Полицейский из иммиграционного управления – крепкий господин среднего возраста. Никаких сомнений, что он полицейский, хотя и одет в гражданское. Держится не то чтобы с неприязнью, но крайне формально, кажется, я не вызываю у него вообще никаких чувств – наверное, это необходимое качество, чтобы квалифицированно провести допрос. Он говорит по-немецки грамматически правильнее, но далеко не так бегло, как я.
У нас возникают разногласия уже в самом начале, когда он записывает мои данные. Пока дело касается имени, фамилии и даты рождения, а также страны, из которой я прибыл, все идет хорошо.
Но мы застреваем на вопросе о национальности. Я говорю, что я еврей, но это его почему-то не устраивает. Он неожиданно заявляет, что такой национальности вообще не существует.
Как не существует? Я чувствую себя глубоко уязвленным. Он не понимает, что мне за все прожитые в Польше годы отказывали в праве стать поляком, а я не понимаю, что с его точки зрения все просто: я приехал из Польши, и здесь, в Швеции, я поляк. И никто иной. Мне кажется, он считает меня за идиота, к тому же упрямого идиота, и от этого теряюсь еще больше. Наконец ему кажется, что мы чересчур увязли в обсуждениях, и он решает вопрос по-своему.
– Ты родился в Польше?
– Да, в Польше.
– Ты гражданин Польши?
– Да, вроде бы.
– Твои родители польские граждане?
– Польские.
И он уже не слушает, когда я пытаюсь объяснить ему, что он чересчур все упрощает, и пытаюсь предложить правильное, по моему мнению, определение – польский еврей.
Таким образом, полицейский в комнате для допросов на Бергсгатан решил за меня, кто я есть такой. С сегодняшнего дня я – поляк. За все мои четырнадцать лет жизни в независимой Польше это было моим самым заветным желанием – стать поляком. Но в поляки меня не приняли. А теперь, когда я оставил Польшу и приехал в другую страну, вдруг сделался поляком – это ли не ирония судьбы?
Мое глупое упрямство в начале допроса накладывает отпечаток на дальнейшее. Мы не понимаем друг друга. К тому же очень скоро я обнаруживаю, что ему принадлежит право интерпретации моих ответов, и мне становится совсем плохо. Его тон и манеры не то, чтобы инквизиторские, но он явно насторожен. То и дело возвращается к одному и тому же вопросу, формулируя его по-иному или задавая в другой связи – явно хочет поймать меня на лжи.
Был ли я членом какой-нибудь политической партии?
Нет, не был. Он даже не слушает, когда я зачем-то объясняю ему, что мой отец советовал мне держаться подальше от политики.
Он хочет знать, подписывал ли я до, во время или после войны какие-либо документы и имел ли удостоверения, выданные каким-нибудь союзом или обществом. Я с трудом припоминаю, был членом союза студентов в Лодзи, еврейского студенческого клуба и клуба спортивных болельщиков, но ему этого мало. Он хочет знать, имеет ли какая-нибудь из этих организаций связь с политическими партиями. Интересно, записал ли он, когда я ответил, что конечно же насколько я знаю, нет, не имеет…
Был ли я когда-нибудь на собраниях политических партий или молодежных политических организаций?
Был ли я во время войны активным членом подпольных организаций сопротивления?
Нам снова трудно прийти к общему выводу. БЕО – Боевая еврейская организация. Была ли БЕО участницей сопротивления в том смысле, как он это себе представляет? Можно ли назвать активным участием в сопротивлении то, что связные БЕО ночевали у нас и многие из них были моими школьными товарищами?
Новый вопрос – была ли БЕО связана с коммунистическим подпольем? Я вновь и вновь рассказываю об одном из подразделений Гвардии Людовой, к которому присоединились в лесах под Конисполем те немногие члены БЕО, кому удалось бежать из Малого гетто. Пусть он сам определяет, была или нет БЕО связана с коммунистами.
Самое тревожное – я так и не знаю, как выглядят мои ответы, когда он отщелкивает их на большой черной пишущей машинке.
Чиновник иммиграционной службы исписал уже четыре листа и, сложив их на столе текстом книзу, закладывает пятый.
Почему я уехал из Польши? Потому что в Польше преследуют евреев, потому что был кровавый погром в Кельце, потому что еврейских студентов в университетах жестоко избивают. В Лодзи, где я учусь, одного еврейского студента убили и угрожают тем же остальным.
Он говорит что-то невразумительное, как мне кажется, дает понять, что все это не может считаться уважительной причиной, чтобы остаться в Швеции. Я снова возражаю – если тебя угрожают убить, это более чем достаточная причина для эмиграции.
К концу долгого допроса он просит меня еще раз подумать, нет ли еще какой-нибудь причины. Нет, только антисемитизм, они же угрожают убить нас, продолжаю настаивать я. Он все же пытается мне помочь – может быть, я ощущал на себе преследования коммунистического режима.
И тут я забиваю последний гвоздь в свой собственный гроб: гордо заявляю, что в Польше сейчас у власти признанное международным сообществом коалиционное правительство, а никакой не коммунистический режим, к тому же я совершенно не интересуюсь политикой. Эту мою тираду он не записывает.
Чиновник долго просматривает свои бумаги – у него больше вопросов нет. Вдруг в его голосе появляются человеческие нотки – он просит меня подумать, не хочу ли я чего-либо добавить к протоколу. Но я, во-первых, понятия не имею, что он там написал, а во-вторых, совершенно измотан долгим допросом. Мне нечего добавить, говорю я. Он еще раз заглядывает в протокол, на секунду задумывается, протягивает мне руку и желает успеха.
Наконец я могу с большим опозданием пообедать.
Я чувствую себя совершенно несчастным и недовольным самим собой. Умом я понимаю: не было никаких причин злиться на этого чиновника. Никто не хотел причинить мне ничего плохого, но я вновь