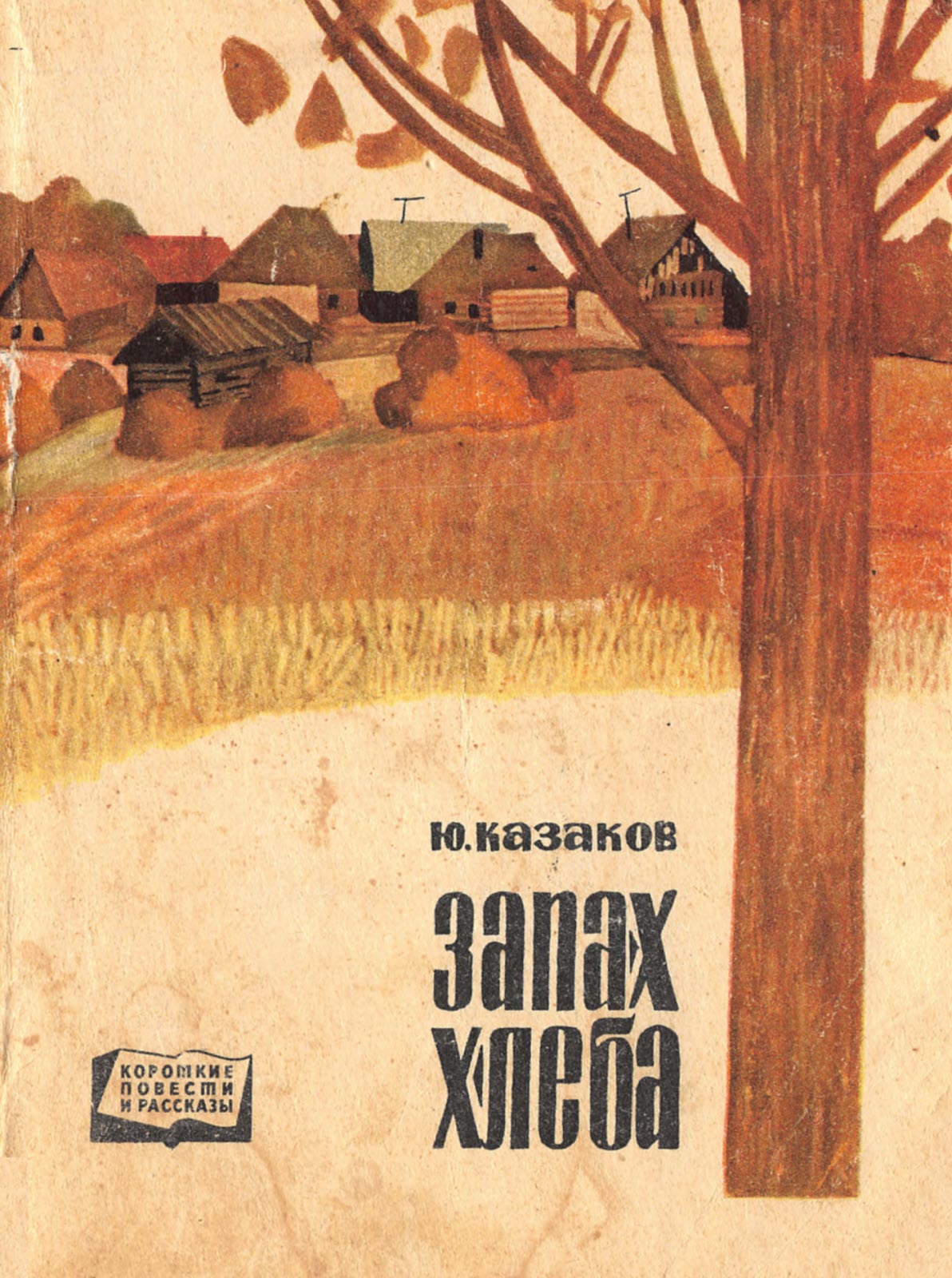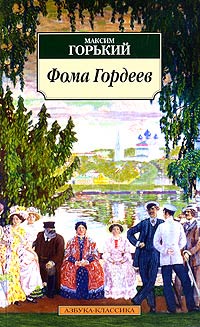свое время могли значить так много. Теперь же они для меня мертвы и вызывают только сожаление о том, как быстро убегает время и как мало можно выразить словами — неточными, обманчивыми, уводящими от сути.
С переездом Иржи и его непутевой, но обворожительной жены события стали набирать ход. Своей семьей зажила и Надя Моравкова. Эма стала решительно отклонять заботу и опеку родителей, любящих, но, по ее мнению, совершенно потерявших ориентацию (да и время, на взгляд старшего поколения обитателей дома под Петршином, было какое-то непонятное).
Однажды позвонила соседка пани Тихой и сообщила, что ту неожиданно увезли в больницу. Положение было серьезное, но семью Флидеров нисколько не обескуражило. Наоборот, в ту атмосферу страхов и неопределенности, в которой пребывали Эмины родители, внесло нотки какой-то успокоительной стабильности: свадьбы, промоции, крестины, болезни и похороны были привычными вехами в круге их бытия — тут все было ясно, а значит, в сущности, хорошо. Семья, к которой причисляли эту одинокую скромную женщину, собралась в высоком коридоре городской больницы на Карловой площади. У пани Флидеровой и тети Клары защемило сердце: кажется, лишь вчера из этой вот унылой, затхлой и в общем-то жалкой больницы они в буквальном смысле слова убегали с младенцем на руках, а старик доктор… лучше уж не вспоминать.
Перед тем как войти в больницу, постояли немного. Давно утратили былую торжественность подобные посещения. Когда занемогла покойная мать пани Флидеровой и была помещена в подольскую клинику — сколько родни туда съехалось! Теперь с грустно-участливыми лицами стояли лишь две дамы в темных зимних костюмах и пожилой элегантный господин в английском пальто реглан. Для визита к захворавшей родственнице он приготовил цветы и подобающее выражение лица, где читалось только сочувствие и сознание важности происходившего.
Конечно, пани Тихая была немолода. Война отняла у нее мужа и сына, едва ли можно было полагать, что прелесть маленького Ладика совершенно ее воскресит. По мере того как складывались ее отношения с невесткой, становилось все ясней, что они совсем разные и далеки друг от друга, как две звезды. Когда с осени пани Тихая стала полеживать, это не могло не вызвать опасений. Она ни на что не жаловалась, только таяла как свеча и перестала интересоваться даже внуком. Казалось, она хочет уйти из жизни, где ей открылось нечто такое, чем нельзя поделиться с окружающими, потому что они не поймут.
Теперь ее родные стояли на асфальтовой дорожке, украшенной павильончиками и киосками, где можно было приобрести цветы, фрукты и разные безделушки, приятные для больного. Во всяком случае, эти павильончики супруги Флидеры и тетя Клара видели. И, вероятно, удивились бы, услышав, что с начала войны подобной роскоши там уже не водилось. Такие вещи у них не было охоты замечать. Теперь они всецело сконцентрировались на задаче, которая им предстояла: не предполагая, что пани Тихая поправится, стали с полным пиететом готовить для нее последнюю услугу, которую оказывают ближнему живые.
Смерть в хороших семьях, чтущих традиции, обставлялась со всей серьезностью. Не только скорбь по ушедшему родственнику, но и сочувственная почтительность к неповторимому в своей важности шагу в вечное упокоение, как это называли прежде. Того, кто совершает этот шаг, необходимо окружить самым благоговейным вниманием и заботой. Не какая-то вульгарно-безвестная кончина, каких в войну было миллионы, а со всей тщательностью подготовленная последняя услуга уходящему. В подобных взглядах Флидеры были воспитаны, чтили их, полагали незыблемыми и потому с таким спокойным достоинством шли теперь за главой семьи через широкие ворота этой старой и неуютной больницы.
Прежде чем пройти к больной, они желали поговорить с главным врачом, профессором, светилом, — с ним они, кстати, были знакомы и помимо клиники. Специалиста более низкого ранга для лечения кого-нибудь из членов своей семьи они просто не могли себе представить. Только потом можно было снизойти до беседы с лечащим врачом и старшей сестрой.
У кабинета профессора их ждала Эма — до неприличия молодая и, на их взгляд, недостаточно проникшаяся важностью надвигавшегося события — в распахнутом халатике, что выглядело одновременно и неряшливо, и кокетливо. Она здесь проходила практику.
Эма готова была рассмеяться, увидев эту процессию. Они, казалось, соскочили с киноленты плохого режиссера, изящные и нелепые. И как им объяснить, что это их мероприятие никому не нужно? Не только потому, что пани Тихая хочет умереть, а потому, что ни одно светило не смогло бы в этом случае помочь. А выражение их лиц, и поведение, и весь их облик — действительно как из другого мира. И как такое еще возможно? Однако долго размышлять над этим Эма не могла — они стояли перед ней с сочувственными минами, явно желая деликатно не заметить слишком ничтожную роль своей дочери в лечении пациентки. Но тут они были очень несправедливы к Эме. Они бы ужаснулись, если б только знали, что она думает, что чувствует, когда не менее двух раз на дню заходит к своей свекрови. Постоит над ней, поправит подушку, подаст питье, погладит ее руку и тщетно, до отчаяния тщетно, пытается найти в этом лице, застывшем маской необычного спокойствия, черты оплакиваемого возлюбленного — или, может быть, своего сына, — ведь пани Тихая приходилась матерью Ладиславу. А тут еще этот визит… Конечно, он был проявлением искреннего сочувствия — к пани Тихой всегда относились с симпатией и уважением, — но у нее-то уж давно не оставалось интереса ни к чему…
Эма должна была пообещать, что положит ей в гроб фотографии большого и маленького Ладислава. Больная еще попросила распашонку, в которой первый раз принесли к ней новорожденного сына и которую она потом надела на внука, когда в первый раз пришла к Флидерам.
Эма послушно все исполнила. В тот вечер она не могла уйти, осталась в клинике. Больничный распорядок, этика поведения врача помогали ей сдерживаться, а то она бы плакала, как брошенный, беспомощный ребенок, и все из-за той крошечной младенческой распашонки. Впрочем, это не совсем так. Не в этой светлой распашонке с вышитым петушком заключалась суть — а в Ладиславе, в маленьком Ладе, в Эме, в том, что же будет, когда сын вырастет, а она состарится, как мать Ладислава и ее собственная мать, и жизнь, скорей всего, так же бесповоротно отринет ее, как тех людей, с которыми она провела, вероятно, самую лучшую пору своей жизни, которых любила и, бесспорно, любит, но которые уже стали ей чужды и будили прежде всего сострадание. Это она считала чудовищным, вот потому-то (вернее, еще и