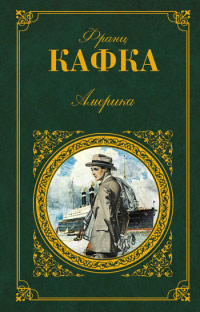листы, читал… а датчанин най-най-най обрывал его, настаивал на своем, кричал: ты все не так понял, Пшемек… поляк говорил по-польски, а Философ отвечал на датском, они прекрасно понимали друг друга, но со стороны можно было решить, что они ругаются из-за какой-нибудь ерунды, если бы не мелькавшие то и дело странные имена и такие слова, как: манихейство, алхимик, философский камень, евангелие от Фомы и проч., то я обязательно подумал бы, что они спорят из-за того, что кто-то из них помочился в лодку или облевал ботинки… затем Пшемек выругался по-польски, отмахнулся от датчанина и, больше не слушая того, полез к нему в каюту и лег спать на узенькой, не больше двух сигаретных пачек в ширину, скамье, причем сам он был очень крупный… и мгновенно уснул… Пусть поспит, сказал Трульс, ему же лучше будет, так переживать из-за ерунды, его снова не напечатали в каком-то польском журнале, он пишет стихи и прозу, нечто сложное, им там не понять, он переживает, что не существует… я посочувствовал, покачав головой, и мы продолжили курить, Философ мне рассказал про поляка, он прибыл в Данию в восьмидесятые, его лагерь располагался на корабле Norrona, я не подал вида, что меня это удивило, просто сказал, что слыхал об этом корабле, сам поглядывал на спящего и удивлялся: вот он какой!., я уже столько слыхал о нем, и вот теперь я вижу его!.. Пшемыслав теперь разговаривает только с животными, рассказывал Трульс, с людьми он тоже говорит, но — только-постольку, а вот с животными у него настоящие беседы, его самый большой друг — пингвин по имени Пер… я хотел засмеяться — с трудом верилось, но был ли у меня выбор, да и какое это имело значение: веришь ты им или не веришь… все одно — приходилось выбираться на берег и идти, под дождем или снегом, было неприятно, поэтому я не смеялся, я шел и думал: на одной из полок шкафа у него на лодке стояла русская книга Ленина, том тринадцатый, кожаная обложка темно-синего цвета с оттиском профиля Ильича, я все намеревался заглянуть в книгу, но так и не дошло до этого, как и выяснить, откуда она у него (гораздо позже я узнал, что в книге была вырезана форма для фляги с виски). Жаль, что он не позволил мне пожить у него на лодке… жаль, что Пшемек занял единственное место… я заночевал у Дорте, потом опять шел на лодку, там был Пшемек, он совсем не помнил меня, заново познакомились, и я его теперь рассмотрел получше… он был совершенно лысый и немного мрачный, чем-то походил на ящера, он неряшливо одевался, все время что-нибудь ронял, его футболка вся в дырочках от угольков гашиша, и старые джинсы тоже прожег, подошвы кроссовок стоптаны внутрь, он их не снимал: мои ноги воняют, я не снимаю обувь, предупредил он, шмыгая, у себя тоже оставался в обуви, в нем было что-то странное, долгий пустой взгляд, зеленые отсутствующие глаза рептилии, провел немало дней в дурке — ну и как там, в датской дурке? — нормально, как в любой другой, скоро сам узнаешь, и засмеялся, поначалу он был немногословен, меня ни о чем не расспрашивал… я сказал, что я — русский, — сам знаю, отрезал он, не имеет значения: мы все млекопитающие… пару ночей я пожил у него в грязной общаге за чертой города, мы долго ехали на автобусе, я успел заснуть и поймать ломку, она подкралась как озноб, я подумал: простудился, но это была не простуда… у Пшемека дома было полно барбитуры и всякой прочей порошковой дряни, мы экспериментировали… но следовало поесть перед дозой… сильно рвало… у него тоже не было денег… еще неделю надо держаться до социала… он жил на социале… как и все в этой общаге… скоро перешел на польский, растолок таблеток, понюхал порошка и разошелся: гностики, демоны, стоики, алхимики, ангелы… я ничего не понимал, он говорил по-польски, но даже если бы я знал польский… да, да, Пшемек, я что-то слыхал об этом… ты читал евангелие от Фомы, спрашивал он… нет, Пшемек, извини, не довелось… держи, он дал мне распечатанные листки бумаги на польском, почитай обязательно… я засунул их в рюкзак, он перешел на русский, когда заговорил о дзен-буддизме, к сожалению, меня не спасло его неплохое знание русского, я не смог поддержать, мне было стыдно, еще немного, и он меня выставит, зачем такой оборванец нужен, даже в такой обшарпанной халупе, даже о дзен-буддизме ничего не может сказать… «Бродяги Дхармы», слыхал?… все мимо, в такой облезлой хате как раз и нужны звонкие имена, извилистые теории, красивые истории об ангелах и алхимиках — все они — и даже демоны — нужны затем, чтобы не замечать безысходности и убогости, собственной безнадежной бедности и проч., а я не был способен подыграть, черт меня подери такого, я даже не читал Керуака!.. я не знал, кто такой Джон Ди, невежда!., эх ты, как всегда не те книги читал… я задвигал ногами, собираясь встать и пристыженно покинуть общагу… и вдруг: Гамбрович!.. да!.. Фердидурка — о!.. Санаторий под клепсидрой!.. пошло как с горочки… еще с десяток вагонов… один за другим: чух-чух-чух… все встало на свои места, как хорошо, что есть вещи, которые никогда не подводят, простые и надежные, твердыни… такие, как Стерн, например… они никуда никогда не денутся… он достал свои бумаги, читал стихи, мы пили крепкий чай и нюхали какой-то порошок, должно быть, speed… он снова читал стихи, я толок таблетки и нюхал порошок, затем он толок свои таблетки, а я читал — он заставил меня почитать свое… я стеснялся, но читал, немного… когда кончились сигареты, я достал трубку, и мы ее курили, как джентльмены… трубку мне подарил Философ… это была красивая трубка с фарфоровой чашкой и сменными металлическими мундштуками, он мне подарил коробку с табаком, фруктовой курительной смесью, фильтрами и папиросной бумагой… щедрый подарок… когда Пшемек увидел коробку с китайскими рисунками, он обвинил меня в краже: это же коробка Трульса!.. и трубка мне показалась знакомой!., такие любит Философ!., ты обокрал старого датчанина!., он сразу перешел на датский… за шкирку поволок вон, всю дорогу в автобусе он сверкал на меня глазищами и держал за рукав куртки, шипел на датском: du er skiderik… tyv…[103] он не дал мне слова сказать… старый датчанин раздосадованно чавкал и говорил: нет, Пшемко, нет,