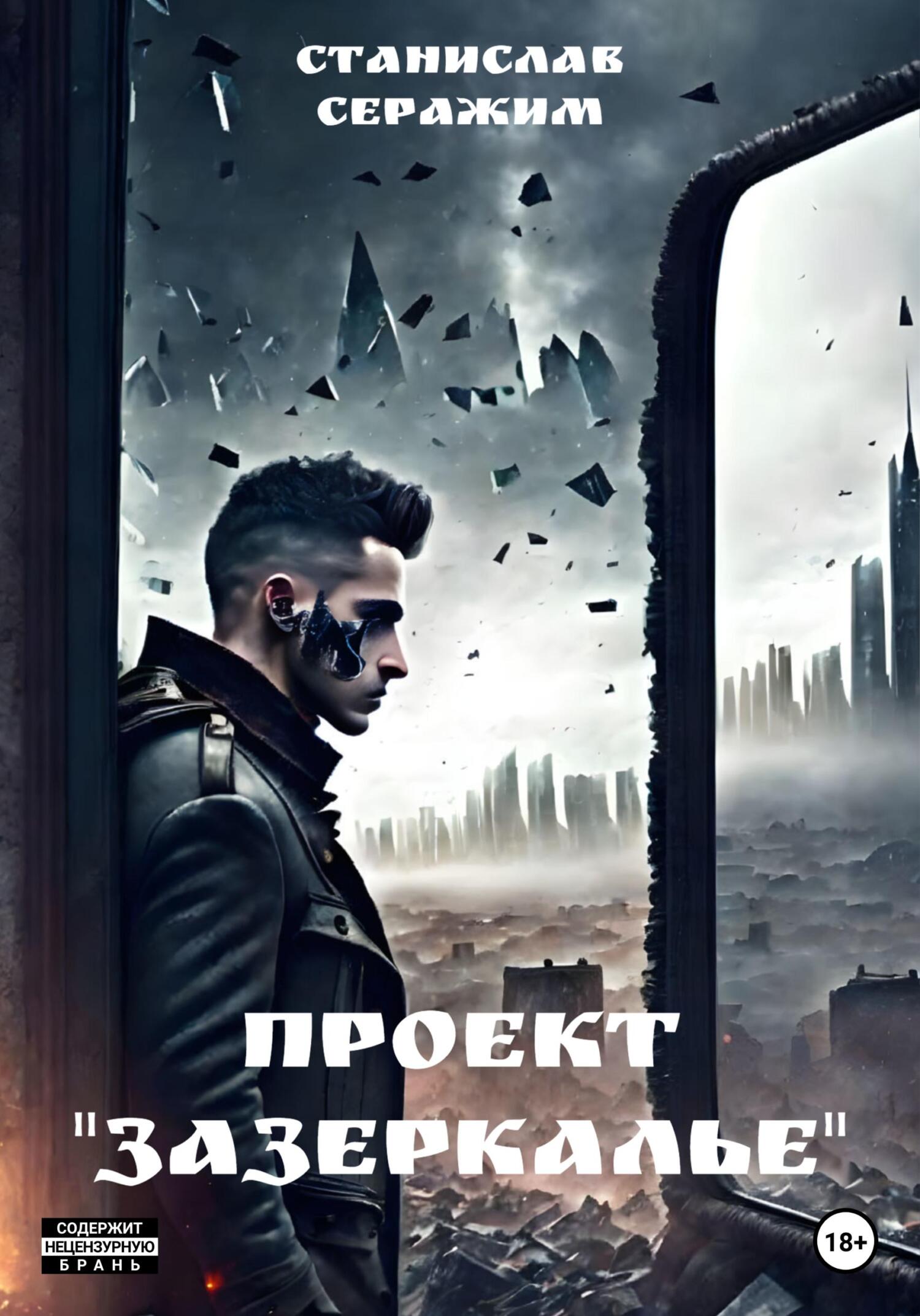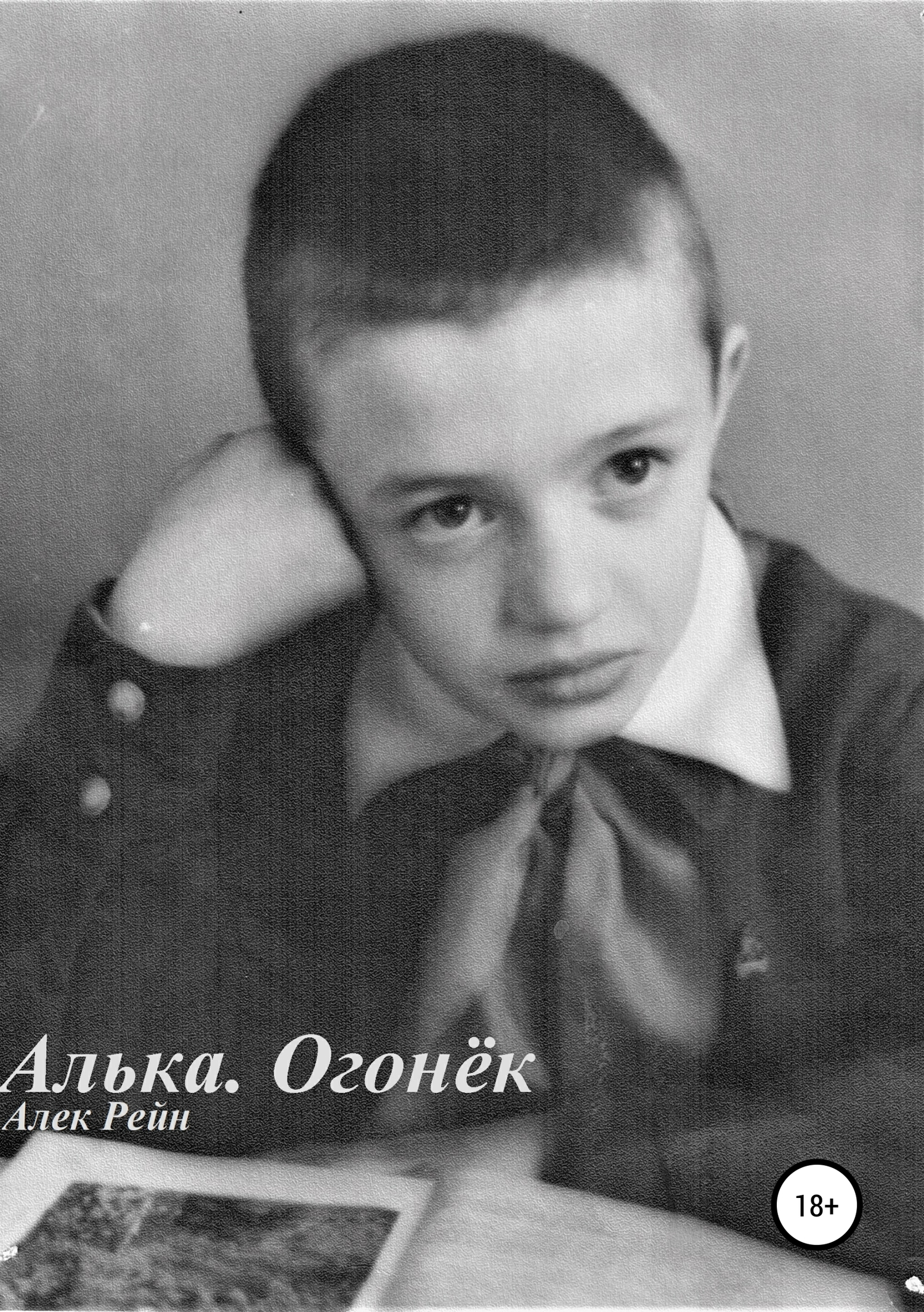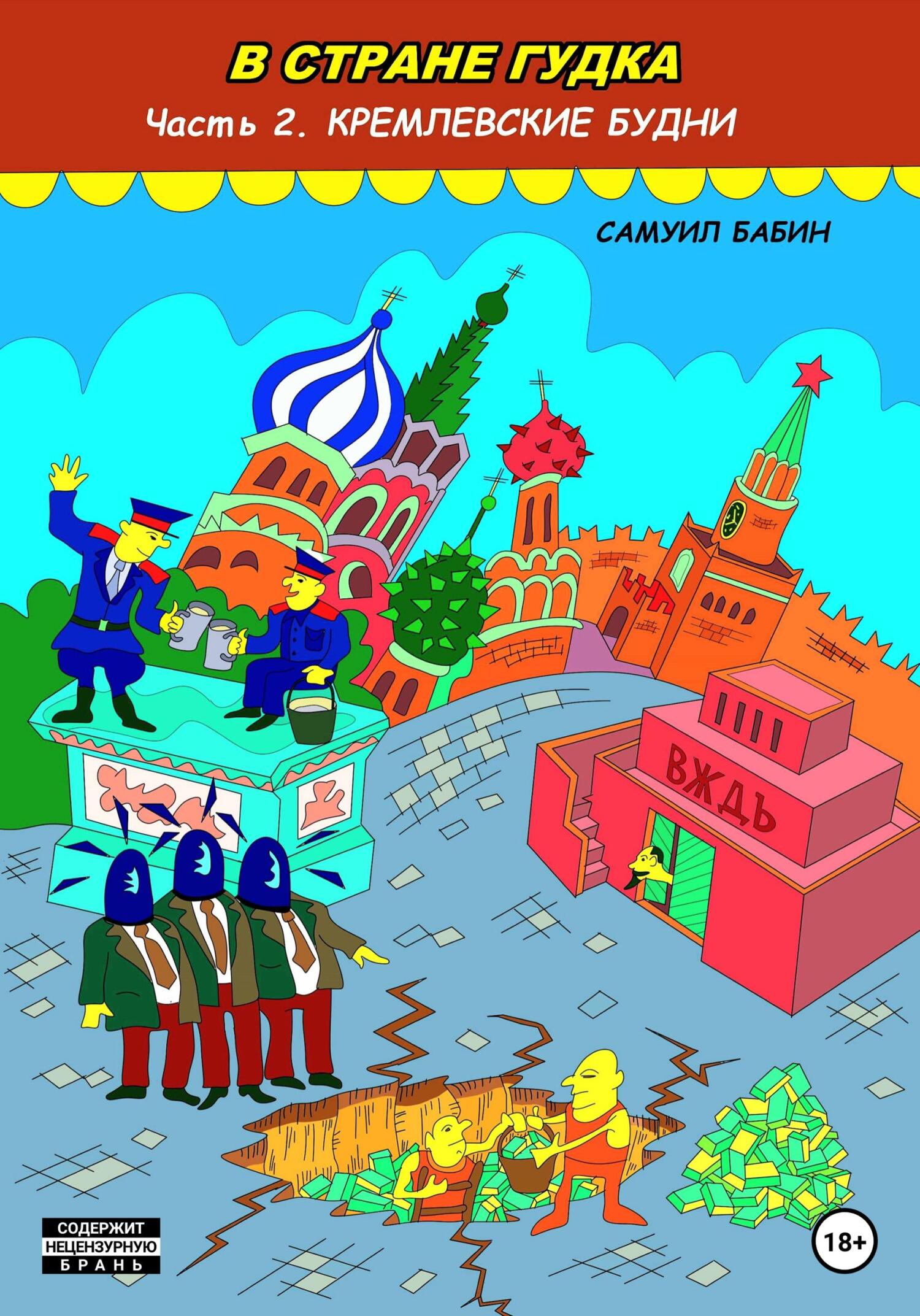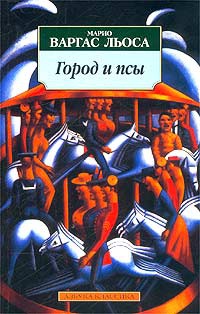воздух. Крупитчатый скрип шагов. Кто скажет, что это юг?
Никритин закурил. Спичка зашипела в снегу, вспорхнул над нею дымок сиреневый — шнурочком. Никритин морщил лоб и смотрел на истаивающий дымок. Сунул руку в карман. Сама скользнула в ладонь маслянисто-гладкая зажигалка. Гм, забыл!.. Он постоял и выбросил в снег коробок спичек. Высоко поднимая ноги, он двинулся через сугроб.
Кончается год... Кончается...
Прошел ли он стороной? Или коснулся тебя, что-то оставил в тебе? Вроде бы и жилось растрепанно, и работалось впустую. Сплошные срывы и неудачи. И однако... невозможно начисто выпасть из потока жизни. Обкатывает поток, влечет, день за днем, неприметно, наслаивает в сознании осадок опыта. Желающего — судьбы ведут, нежелающего — тащат, — еще римляне знали это.
Нельзя, невозможно выпасть из потока времени!..
А время в последние месяцы года сжалось, как под створками пресса, накалилось до предела. Казалось, жар его опалил и осуровил лица сограждан, заставил их плотнее льнуть друг к другу — в очередях ли у газетных киосков, под уличным ли репродуктором. Люди стали общительней, люди стали зорче и строже.
Кончается год...
Кажется, никогда не нависала так зримо, так близко грибообразная опасность. Опасность всеобщего истребления.
Но шагнули и через это. Пережили и Венгрию, и Египет.
Жизнь продолжалась.
Огромная.
Логически-неизбежная.
Жизнь...
Никритин наподдал ногой крупную сосульку, лежавшую на тротуаре.
«И все-таки «Жизнь», — он имел в виду свою картину, — это не плохо! Говорите, что хотите...»
Ему вдруг стало весело. На углу переминался, переступал с ноги на ногу продавец детских шаров. Зеленые, малиновые, они терлись, колыхались в связке — легкие, прозрачные шары.
Никритин остановился. Выбрал самый большой — малиновый. Расплатился. Намотал на палец бечевку.
В центре было людно, празднично, суетливо. Город оставался тем же и чуточку был иным. Ни флагов, ни лозунгов, ни транспарантов — а всюду праздник, праздник! Радость. Веселье. Нервная приподнятость. Торопились короткими шажками женщины с коробками тортов. Шествовали мужчины с авоськами, из которых многоствольными минометами выглядывали бутылки. Возвышалась, как не совсем прибранная невеста, елка на Театральной площади.
На тротуарах теневой стороны еще лежал снег и пахло зимой. А асфальт!.. Он уже превратился в бурое месиво под колесами машин. Пересекали его бегом, спасаясь от грязных ошметков.
Никритин вдохнул подсолнечный воздух, повернул назад. Хотелось есть. Он пошел по Дзержинской. Сухо терся о щеку шар. Здесь, на узкой улице, солнца почти не было. Оно отчеркивало желтым лишь карнизы. Копошилась на тротуарах ребятня. Протерли ледяную дорожку-скользянку и катались с разбегу. На своих двоих, на подошвах.
Шла навстречу девушка. Быстро, пружиняще, сунув руки в карманы пальто. Вдруг разбежалась, поводя плечами, и заскользила по узкому зеркалу, покачнулась. Никритин поймал ее, падающую, на руки. Расхохотался вместе с нею, поставил ее на ноги — и осекся: «Рославлева!..» Ну да, рядом же редакция...
Она отхохоталась и распрямилась, подобрала под меховую шапочку выбившиеся волосы.
— А шарище цел? Такой большой!.. — Она внезапно расширила глаза: — Вы? Вот здорово!.. Сколько собиралась к вам зайти, посмотреть ваши полотна... Все некогда... А ваш дядя, оказывается, работает у нас.
— Это я свинья: не пришел поблагодарить... — сказал Никритин и, смотав с пальца бечевку, зачем-то протянул ей шар.
Она подержала шар, облила его взглядом и повернула к Никритину лицо. Прищурилась. Заговорщицки, по-мальчишечьи.
— Давайте отпустим его?
— Давайте...
Шар взлетел и понесся — малиновый — в небо.
— Вы куда сейчас? — спросила она, все еще глядя на улетающий шар. Лишь голубятники смотрят так. Словно сами готовы взлететь.
— Никуда...
Не признаваться же, что направлялся в обжорку!..
— Нет, правда? — она обернулась к нему. — И Новый год — ни с кем?
— Ну... — Он замялся. Ни с кем... Что она имела в виду? Девушку? Компанию? — Особенно... ни с кем... — докончил он.
— Хотите с нами? — порывисто, как, наверное, делала все, спросила она. — С нами, журналистами? Мы едем в горы! Снега и звезды!.. Хотите?
— Да... но... надо же, видимо, внести какой-то пай? — нерешительно сказал он. — И вообще... удобно ли?
— Ну чепуха какая!
— Нет уж, незваным гостем я быть не хочу.
— Так я же вас приглашаю!
— Все равно...
— Ну, хорошо... — нетерпеливо дернула она его за рукав, потянула за собой. — Забежим ко мне, я предупрежу дома, а потом разберемся. Купите что-нибудь на обратном пути.
— Мне тоже надо бы предупредить... — вспомнил вдруг Никритин об Афзале.
— Позвонить вы можете?
— Позвонить?
Верно. Можно ведь Фархаду звякнуть в клинику. И телефонная будка здесь же, на углу.
Никритин втиснулся в узкую будку и припал на плечо. Медлил. Слишком многое всколыхнула эта встреча. Бегство от Инны Сергеевны... ее предсказание, странно сбывшееся... Странно, перекошенно, как в разрезанных и сдвинутых полотнах Пикассо... Тата! Звездные ночи Таты... и хмурое утро ее... А до этого — та фантастическая ночь: жирное пламя, отсветы на стремительном лице Рославлевой...
Мелькнули в окошечке будки ее удивленно-выжидающие глаза. Никритин вынул монету и опустил в аппарат.
— Да! Слушаю... — зажужжала трубка, словно в ней билась осенняя муха.
— Фархад? Слушай... Извинись перед своими и перед Афзалом... Я сегодня не буду дома. Ты меня слышишь, понимаешь?
— Слышу. Но не понимаю. Ты что — с женщиной?
— Да. Но какое это имеет значение? Я — с человеком! И не могу иначе...
— Понятно... — ехидно жужжала трубка. — Потерял одну, так пять найду?
— Ты, медик! — обозлился Никритин. — Кроме физиологии, ты что-нибудь признаешь?
— Ну ладно... — примирительно сказал Фархад. — Передам. И Афзалу тоже. Желаю удачи!..
Никритин ругнулся, но в трубке уже набегали, подстегивая друг друга, торопливые сигналы отбоя.
Громыхал, как зонтик, крытый верх грузовика. Громыхал брезент. А под ним — смеялись, шумели, пели.
Умный в горы не пойдет, не пойдет,
Встретит гору — обойдет, обойдет...
Ехали в горы. Умные. Острые на язык.
Никритин покачивался, втиснутый между