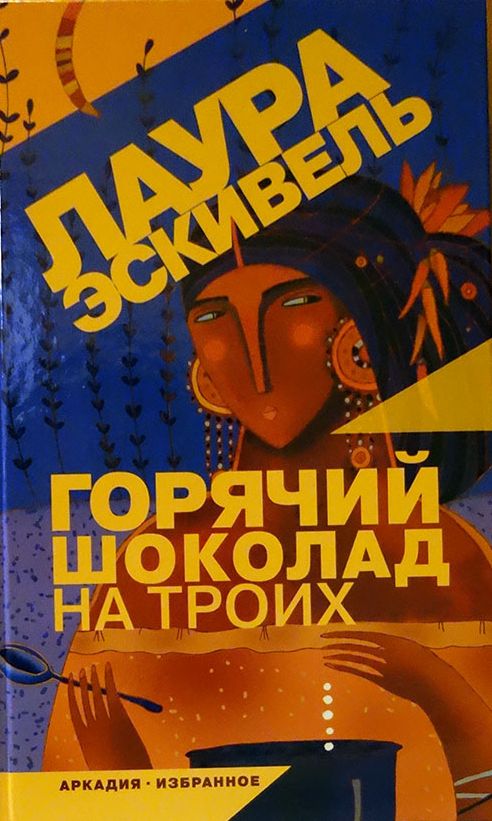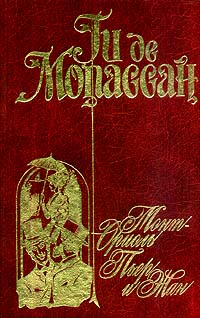в определенное место и парализовать беднягу, не убив.
— Да, — подтвердил Антельм, — так жертва превращается в прекрасный контейнер из живого мяса для личинок, которые наберутся сил и смогут вдоволь питаться. Я восхищаюсь, это правда, тем, что, прицеливаясь, насекомые не ошибаются и на сотую долю миллиметра или унции в дозировке яда. Я поражен, что они инстинктивно знают о недостатках своего организма и выполняют миссию хладнокровно — только так можно не ошибиться. А больше всего я поражаюсь тому, что вы, врачи, со всей вашей тщетной наукой и близко не способны на такие подвиги. А почему? Да вы ничего не знаете! Вы не только понятия не имеете о точке, в которую следует атаковать…
— Если, конечно, такая точка существует, мой дорогой Антельм. Вы очень наивны в своем стремлении превозносить жизнь жесткокрылых над нашей…
— …Но, кроме того, вся ваша химия не способна погрузить человека в бесконечную летаргию, которая неизбежно приведет к смерти. Все, что вы переняли у природы после стольких попыток, — это шприц!
— Скажите мне, Антельм, какого черта нам искать этот обездвиживающий нектар и ту самую невралгическую точку? Конечно, случается, что Наука приводит нас к неожиданным открытиям, но вот это открытие, даже случайное, прорастет скорее в голове преступника или сумасшедшего, чем врача. Я прекрасно понимаю, что вы пытаетесь доказать: и за тысячи пациентов мы не продвинулись до уровня обыкновенной осы. Но тем не менее это прогресс, позволивший нам предпочесть разум животному инстинкту, который озабочен лишь сохранением вида из поколения в поколение. Ради всего святого, перечитайте Сенеку: наша грива никогда не сравнится с львиной, наш бег всегда будет медленнее лошадиного, но наша особенность, разум, стоит того, чтобы его взращивали пуще всех остальных качеств…
— В конце концов, — колдунья теряла терпение, — что ты хочешь знать? Ты уже с четверть часа мямлишь что-то невнятное. Ты пришел не ради себя, а ради кое-кого, чье имя не можешь назвать. Ты просишь не яд, а что-то другое, как ты сам сказал, лекарство наоборот. Какую-то микстуру, медленное действие которой можно будет спутать с болезнью. И нет, этот кое-кто тебя ни о чем не просил, но ты сам догадался, что он желает, чтобы кое-кто другой постепенно умер. И ты пришел ко мне за помощью в этом деле? А что ты дашь мне взамен?
Испугавшись еще чуть-чуть, но не слишком, Слепень поправил очки и разглядел в колдунье обыкновенную крестьянку, а в порче и заклинаниях — лекарства и травы доброй женщины.
— Я всего лишь ребенок, но когда-нибудь я обязательно вам отплачу.
— И чем же, интересно?
— Я найду способ.
— Надо же! Ты хорошо видишь только через эти стекла?
— Я отважный.
— Мне так не показалось, когда я увидела тебя дрожащим под дверью.
— Я просто хочу изменить жизнь кое-кого, кто защитил меня и повлиял на мою судьбу.
— Ты молод, но настолько же безумен, как и старый сумасшедший. Безрассудство не ждет, прежде чем заполучить желаемую жертву. Почему ты пришел ко мне? С чего вдруг ты решил, что я тебе помогу?
— В округе поговаривают, будто…
— Я знаю. Много глупостей болтают. Нет здесь никаких шабашей и костров. Если я знаю о целебных свойствах кое-каких растений, могу залечить рану и вывести бородавку, это еще не значит, что я преступница. Убирайся, и побыстрее.
Антельму придется полагаться только на себя.
Головокружение
Потребовалось много времени, однако в конце концов Антельм признался самому себе: лучшее в его работах, то, что он надеется найти каждый день, — это не признание публики, не удивление ученых, не уважение просвещенных умов, а головокружение.
Точнее, один-единственный момент головокружения, когда две реальности сталкиваются, словно кремни, и на мгновение вспыхнувшей искры Антельм будто покидает собственное тело и выходит за пределы своих ограничений.
Ради этой доли секунды ученый должен часами наблюдать за подопытными. Понемногу — теперь уже гораздо быстрее, раньше требовалось больше времени — Антельм превращается в одно из них — насекомое с рожками. Вы подумаете, он шутит, пытается заманить наше любопытство в ловушку популяризации, когда ведет энтомологические хроники от лица самки жука, занятой уборкой в доме, пока самец, исполнив супружеский долг, по многу раз отправляется испить цветочного нектара вместе с сородичами. Антельм улыбается, но не лукавит: именно так предстает перед ним ситуация, когда его собственный взгляд, превратившись в лупу, пристально разглядывает маленький народец, а Неподражаемый Наблюдатель, забыв о себе, становится таких крошечных размеров, что капля воды может его раздавить, а капля нектара — опьянить, и ничто вам не кажется более привлекательным, чем бронзовые крылья подруги или ее микроскопическая головка на слишком длинном тельце.
Тогда, полностью подчинив свою человеческую натуру и оставаясь незамеченным, Антельм прогуливается среди насекомых; его взгляд и мысли свободно блуждают по округе, сам ученый погружается в сердце этого народца, где у каждого есть обязанности. Антельм остается единственным экземпляром в этом мире, где над каждым видом торжествует всегда один и тот же победитель, — так он проживает долгие часы славы. Когда деревенские мальчишки одерживают верх, лишь раздавив несчастное насекомое, Антельм царствует над крошечными существами, открывая каждый день их секреты, находя ключи к дверям тайн, предвидя их поведение — став практически одним из них и в то же время отличаясь. Он понимает опьянение Бога, наблюдающего за миром, угадывает его жестокое ликование при виде наших войн и страстей, его колебания между сочувствием и равнодушием к нашим страданиям, возбуждению или смертям.
А где же искра, спросите вы? Головокружение?
Когда наступает момент встать на ноги. Когда, устав от долгого валяния в сухой траве и пыли или от сидения на корточках, словно старая жаба, в которую он превратится с возрастом, Антельм встает, принимает человеческий облик, становится двуногим мечтателем и ученым, когда он грубо отрывает крылья, надкрылья, панцирь, хоботки, рожки, хрупкие лапки, головку, грудную часть, брюшную полость. Практически каждый раз голова идет кругом ровно в тот момент, когда Антельм не понимает, к какому из двух миров принадлежит: он все еще копошится или же вернулся к Божественно-человеческому состоянию, является ли он насекомым или великаном, — и Антельм дорожит этим мгновением, когда слава и нищета смешиваются, сливаются воедино, когда он чувствует, будто в одиночку принадлежит к новой расе.
Иногда Антельм говорит себе, что у него, наверное, забавный вид в этот момент. Может, он корчит гримасы, пока кружится голова. Ему очень не хотелось бы, чтобы кто-нибудь застал его в эту минуту, чтобы Эрнест-Слепень, этот мелкий шпион, вдруг