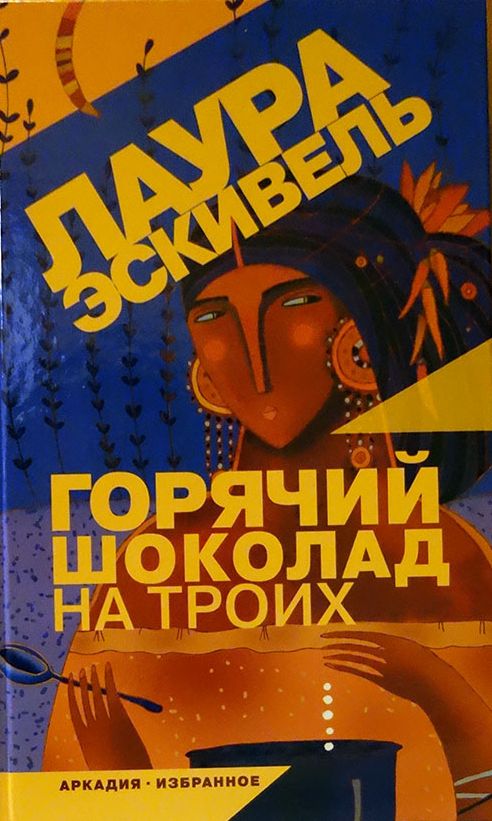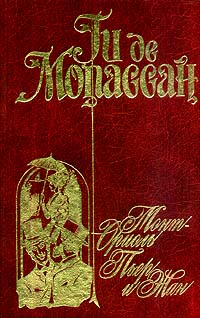вырос за спиной, словно пробковый дуб, и увидел ошеломленное лицо ученого.
После знакомства с Розой Антельма время от времени посещают безумные идеи. «Может, в эти мгновения я похож на Розу? Может, у меня ее выражение лица, как когда она испытывает оргазм и последние волны блаженства пробегают по ее телу иногда долгие минуты?»
Ах! Здесь кроется еще кое-что, от чего Антельм избавляется, превратившись в насекомое. Даже забыв обо всех ощущениях этого образа, встав на ноги и приняв человеческий облик, Антельм тратит все больше и больше времени, чтобы вернулось к нему одно понятие — понятие о добре и зле.
Оса
Все началось с тайны закрытой комнаты.
Дано: мать откладывает яйцо, а затем тщательно опечатывает помещение. Из этого яйца появится личинка, которая должна питаться, расти и превратиться в полноценное насекомое, способное выломать дверь комнаты и отправиться жить своей короткой жизнью.
Личинка кормится исключительно плотью другого насекомого. За время, пока детеныш вылупится из яйца и родится на свет, это насекомое умрет, если не успеет сбежать. Конечно, и речи быть не может о том, чтобы оставить в комнате уже мертвую добычу, которая сначала сгниет, а затем превратится в пыль — новорожденный так и не успеет полакомиться ею. Нужно, чтобы жертва оставалась живой, тогда личинка будет способна питаться ее телом. И вот тут никто ничего не понимает. Никто — это кучка псевдоученых, признанных в университетах и академиях, прячущих за высокими формулировками собственные страхи. Описывая подобные процессы, они приукрашивают природу, стремятся приписать ей очередное чудо, выдумать очередное спонтанное зарождение — тот самый феномен, с начала времен непостижимый для человеческого ума.
Но не для Антельма, который входит в эту крошечную комнату ровно в тот момент, когда там отложили яйцо, разглядывает мать и ее движения со стороны, размышляет, изначально прогоняя мысль о чуде, и находит ответ.
Оса бросается на жертву, производит своеобразный захват и жалит. Она знает, куда ввести яд. И точную дозу. Никогда не ошибается и на десятую долю миллиметра, никогда не превышает порцию и на десятую долю миллиграмма — она же не хочет отравить собственное потомство. Затем оса запирает одурманенную жертву в комнате с яйцом.
Вылупившись из яйца, крошечный червячок появляется на свет и сразу же впивается в кладовую со вкусной плотью — еще живой, что лучше свежеубитой. День за днем детеныш проедает туннель в этой плоти, которая по-прежнему не умирает, потому что личинка инстинктивно знает: нельзя сразу все сожрать, иначе она убьет источник пищи. Жертва начинает гнить только в тот момент, когда с нее больше нечего взять, а пожиратель вырос достаточно, чтобы выбраться из комнаты и взлететь к небу.
Антельм любуется. Его поражает точность жала, методичное распределение парализующего, но не убивающего яда. Он завидует осе-хирургу, восхищается ее способностями анестезиста, удивляется диете детеныша — и это у существ, лишенных и атома разума, малейшей возможности к обучению, любви к появившемуся на свет после их смерти ребенку, которого они даже и вообразить себе не могут. Тогда ученый задается нескончаемыми вопросами о том, кто организовал все это, кто наделил этих примитивных существ мастерством, какого нам, высшим созданиям, никогда не достичь. Антельм представляет себе этот высший разум, который когда-то сам себе загадал загадку с закрытой комнатой, придумал к ней решение и вставил этот бесконечно крошечный кусочек мозаики в бесконечно огромный пазл творения.
В этот момент Антельм всегда злится на англичанина, который обозвал этот высший разум Временем.
— Но время, — вскрикивает ученый, — время ничего не меняет, черт подери! Время имеет значение лишь для нас, для тех, кто умеет его экономить, передавать от поколения к поколению, чтобы учиться и становиться лучше. Но для них! От кого они могут перенять опыт, если рождаются уже сиротами? Как они поймут, что становятся лучше или хуже, если понятия не имеют ни об отправной точке, ни о процессе, в котором участвуют? Вы можете хоть стопкой накидать поколения одно на другое, и ни на дюйм не возвыситесь над самым первым!
В такие моменты Неподражаемый Наблюдатель, обычно раздувающийся от гордости, стремящийся показать каждому встречному письмо с комплиментами англичанина, сам понять не может, что его переполняет: восхищение Гением или же бешенство и презрение при констатации таких очевидных просчетов. Ах! Если бы тот прожил чуть дольше, какие бы письма Антельм ему написал: страстные, гневные, полные рвения, с которым ученик переубеждает учителя, и торжества, если вдруг это удается!
Ни Антельм, ни Дарвин не представляли, что такое гены, ДНК, случайности, способные потревожить эти комбинации и стать причинами прогресса. Они не знали об интимных механизмах, объясняющих примерно все на свете. Но Антельм думает в правильном направлении, он не ошибается: ученый обнаружил, что насекомое, полностью оторванное от своего потомства, как и от предков, неспособное к обучению, не может сделать выводы о каком бы то ни было опыте и будет проводить всю свою короткую жизнь за воспроизведением одних и тех же действий в течение тысячелетий. Однако разум Антельма, как и его наблюдения, заводит в ловушку. Что касается Дарвина, чьи рассуждения менее ясные, а опыты не такие длительные, то именно он пришел к правильному ответу. Дарвин привел человечество к торжеству разума, этой упрямой и суверенной интуиции. Куда бы Антельм ни направился, он всюду натыкается на этот разум, что его раздражает; тогда он предполагает, что существует некий творческий разум, чьи мотивы непонятны человеку.
Но, наспорившись вдоволь с великим покойником, поддавшись неизведанному томлению в поздний час, когда природа умеряет свой пыл и спускает на землю тихую благоухающую ночь, Антельм откладывает шпагу и позволяет своим мыслям принять опасный, пусть и предвиденный ход.
Вот он, Антельм, застыл во мгновении головокружения — мы уже видели его в этом состоянии, когда он не знает, какому миру принадлежит. Вот он, способный, словно насекомое, не оставляя следов, погрузить человека в летаргический сон, от которого жертву спасет лишь смерть. Он знает, какое вещество нужно вводить, в какое место вонзить иглу шприца. Антельм не колеблется: ему все это известно с начала времен, однако единственное, на что он не может решиться, — это обмануть самого себя. И он, как человек, находится не в темной пещере, а в постели, где лежит Супруга: ни живая, ни мертвая, без движения, словно в безразличии, ожидающая своего последнего вздоха. Антельм бежит из этой кровати в другую, давно опустевшую, где раньше спал его сын. Все это лишь мечты.
Очень настырные