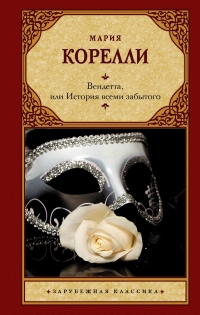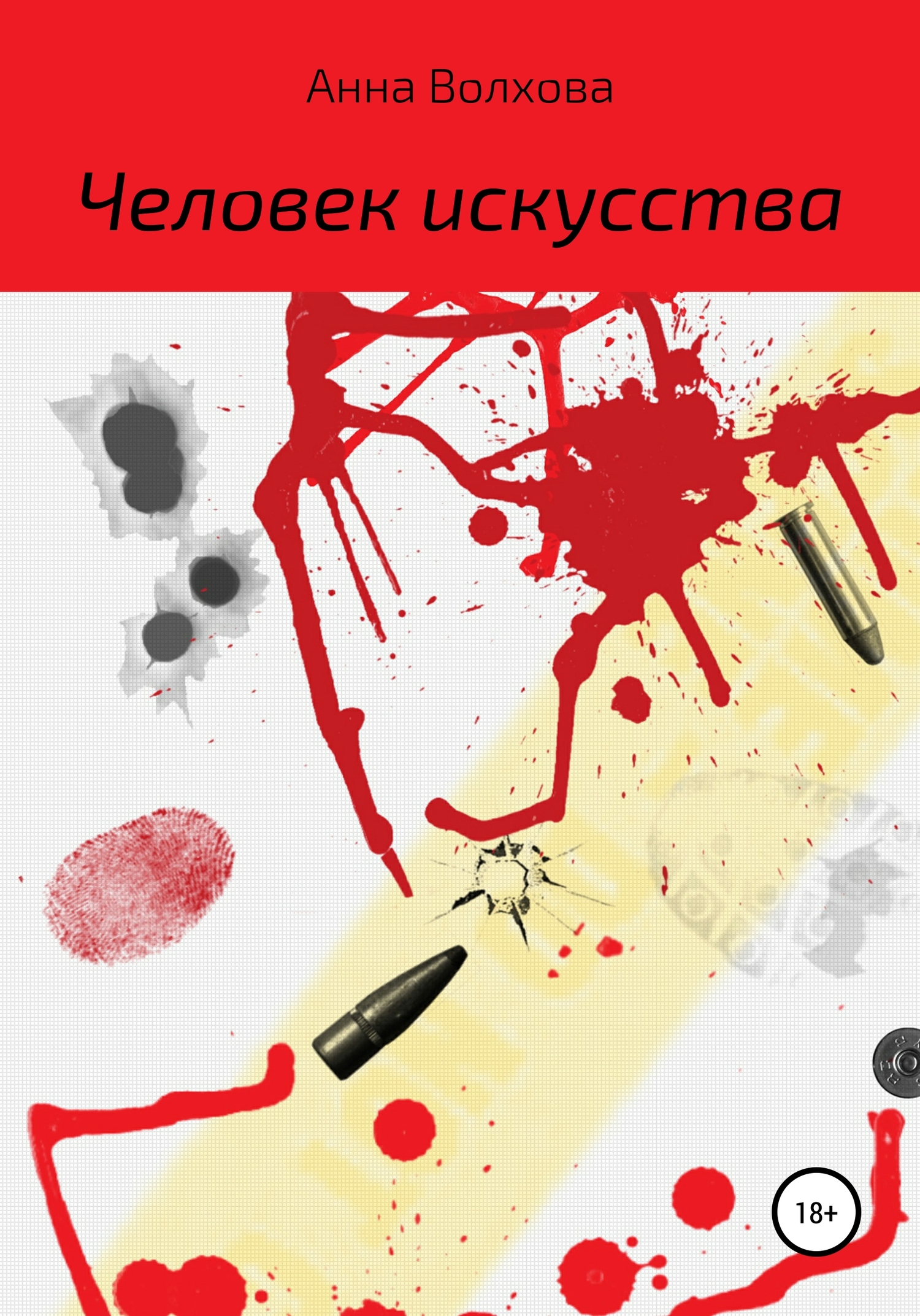на сцене, его легкое тщеславие вполне удовлетворялось исполнением женой романсов для гостей в праздничные вечера.
Заставила дочь восстановиться на курсе вокала бабушка, имитировавшая предынфарктное состояние.
– Мамочка, не умирай! – плакала дочь у ее постели. – Что мне сделать, чтобы ты жила?
– Вернуться в консерваторию!
И мама моя вернулась.
Чтобы после развода с отцом перестать петь уже навсегда: она потеряла голос.
А значит, была обречена.
* * *
И поняла я это из письма.
Вот что дед Арсений написал мне незадолго до своей смерти:
«Ты утверждаешь, что моя сестра виновата в ранней смерти своей дочери Валерии, твоей мамы. Не обвиняй свою бабушку. Она писала мне, что, похоронив дочь, сбитую машиной, до конца своих дней уже не могла спать без снотворного. Она сама винила себя, что не уберегла свое дитя, потому что считала причиной ее гибели собственное материнское проклятие.
Но – напрасно.
Это было не ее проклятие, а прорвавшийся через подсознание твоей бабушки родовой приговор: ее дочь казнили за отречение от своего таланта. Бабушка твоя разрушила личную жизнь своей дочери и фактически погубила ее не по своей воле – она была только проводником нашей общей генетической силы. И сопротивляться ей не могла. Это страшная сила генетического воплощения, которая передавалась в нашем роду из поколения в поколение, заставляя служить себе, подчиняющая себе и уничтожающая неподчинившегося. Она и меня отбраковала за отступничество от своего дара (у меня находили в юности большие способности пианиста) и, отбраковав, разрушила мою жизнь. Кто я? Старый, больной пьяница, ни жены, ни детей. Именно эта генетическая сила, и тоже за отступничество, выбросила из родовой цепочки и твою молодую мать – только приговор ей был суровей. Почему я выжил, а твоя мама погибла? Наверное, одарен я был послабее, меня отбраковали как мусор, вот и все.
Но эта сила владеет и управляет жизнью лишь того из нашего рода, кто одарен. Остальные могут жить обычной жизнью. И даже часто вполне счастливы. Но некоторых она выбирает в проводники для исполнения своей воли, то есть во избежание отступничества. Моя сестра, твоя бабушка, была проводником. Наш с ней родной дядя, мощный гипнотизер, сначала использовал родовую силу для блага, но, когда силой своей возгордился, погиб.
Это говорила мне мать, твоя родная прабабушка, нашедшая свой последний приют на Ваганьковском.
Видишь, есть и второй закон нашего рода: не возгордись.
Это мистика, скажешь ты. Да. И почему эта сила выбрала наш род, я не знаю. Думаю, что у каждого рода есть свой демон (не в смысле демонизма, а в древнегреческом исключительно). В общем, ни на один вопрос у меня нет ответа. Твоя бабушка, сестра моя Антонина Плутарховна, уверяю тебя, была хорошим человеком. И если стереть с ее личности случайные черты обывательского наслоения, под ними можно было обнаружить доброту, доброжелательность и сердечность. А ее авторитарная жесткость, о которой ты пишешь, вспоминая занозы и ранки своего детства, была всего лишь защитным панцирем. Этот панцирь помог ей, юной, пережить тридцатые годы – годы черных репрессий, выжить в Великую Отечественную и, похоронив единственную дочь, вырастить тебя, то есть свою внучку.
Но все-таки самым главным в ней было то, чем она не могла управлять: сила. И сама она была ее проводником.
Так что твою маму погубила не бабушка твоя, а родовая сила. Бойся ее и ты».
Дед Арсений вскоре скончался. Узнала я об этом сначала во сне: он ступил на палубу парохода и помахал мне на прощание рукой – и я знала, что больше мы с ним не увидимся.
Со мной бабушка часто как бы выглядывала из панциря и становилась мягкой, даже беззащитной, но пелена тихого, нежного дождя скрывала грозную гору, на вершине которой зияло жерло вулкана, – и я чувствовала: власть неведомой горы непреодолима…
От ужаса, что судьба моей матери отразится в моей судьбе, я подчинилась бабушке сразу, угадав задолго до письма деда Арсения, просто спасительным детским наитием, что неведомое осуществляет власть и казни именно через мою бабушку.
И она стала звать меня Шелковой Кисточкой.
И однажды сказала: я буду служить тебе, деточка. Ведь ты меня победила сразу своим рождением: каюсь, я ведь заставляла твою маму избавиться от тебя на этапе Лериной беременности, даже договорилась со своей знакомой, гинекологом, что на следующий день, в десять утра, дочь моя ляжет к ней в клинику и там быстро освободится от будущего ребенка. Они все равно разведутся, сказала я, зачем рожать?
И врач согласилась.
Но твоя мама вечером задремала над книгой, и ей приснилось, что на нее со светящейся в темноте иконы смотрят глаза Девы Марии, смотрят скорбно и нежно. Мама твоя проснулась, но успела различить в тонкой туманной полоске между сном и явью плач – будто плакал грудной ребенок. А в нашем подъезде ни в одной квартире младенцев не было. И стены квартиры с другим подъездом не сообщались.
Твоя мама расплакалась сама и на аборт не пошла.
А я была у себя, и, когда на следующий день приехала к твоим родителям, они мне сообщили, что их обоюдное решение таково: Лера в больницу не пойдет.
Глупая, вместо того чтобы шлифовать свой прекрасный голос, она надумала рожать детей!
Но второй ребенок – я всегда была уверена, что это был мальчик, мой погодок, – родиться не сумел: бабушка отвела свою дочь в клинику уже сама – беременность прервали.
И душа нерожденного стала тревожить меня, иногда меня окутывало облако совсем непонятной беспричинной печали, тогда я стремилась скорее встретиться с Димом, видимо, на него неосознанно перенеся ту любовь к моему родному брату, которая была мне отпущена на всю жизнь, но, лишенная объекта, стала печалью.
Были и другие признаки его невидимого присутствия: в «Детском мире» мне все чаще хотелось получить в подарок машинку, а не куклу (мама связывала это с моей привязанностью к отцу-автолюбителю) и платьям я стала предпочитать клетчатые штанишки или шорты.
Мой нерожденный брат проникал в меня незаметно, но вполне ощутимо, меняя мой характер, снижая шкалу женственности и внося в мое поведение черты мальчишеской независимости.
– А ты родилась. – Бабушка вздохнула.
Да, добавляю я сейчас мысленно, замещающее звено в цепочке, отбраковавшей окончательно мою мать.
Но вы вправе спросить, почему письмо деда Арсения я приняла на веру? А я поверила ему полностью. Может быть, ей просто польстило, что ее род обладает какой-то сверхъестественной силой и порождает таланты, скажете вы.
Я отвечу: если и польстило, то чуть-чуть. Гораздо сильнее испугало.
К тому же вы прочитали письмо моего двоюродного деда не очень внимательно! Ведь он пишет: «…у каждого рода есть свой демон (не в смысле демонизма, а в древнегреческом исключительно)».
* * *
И в семье Димона был и свой демон, и свой скелет в шкафу. Скелетов я обнаружила даже несколько. Один материнский и несколько отцовских. Самый заметный отцовский был тот, что перешел к нам с Димоном почти без изменений, – подсознательный сценарий личной жизни: красавица и чудовище (те же Фредерик и Миранда или аксаковский «Аленький цветочек»); он в общем-то одинаков у всех и во все времена: любовь доброй красавицы должна расколдовать чудовище, превратить его в прекрасного принца (короля).
Обратный вариант («Шрек») уже игра современного ума, казалось бы протестующего против проекций, но на самом-то деле увязнувшего в них еще сильнее,