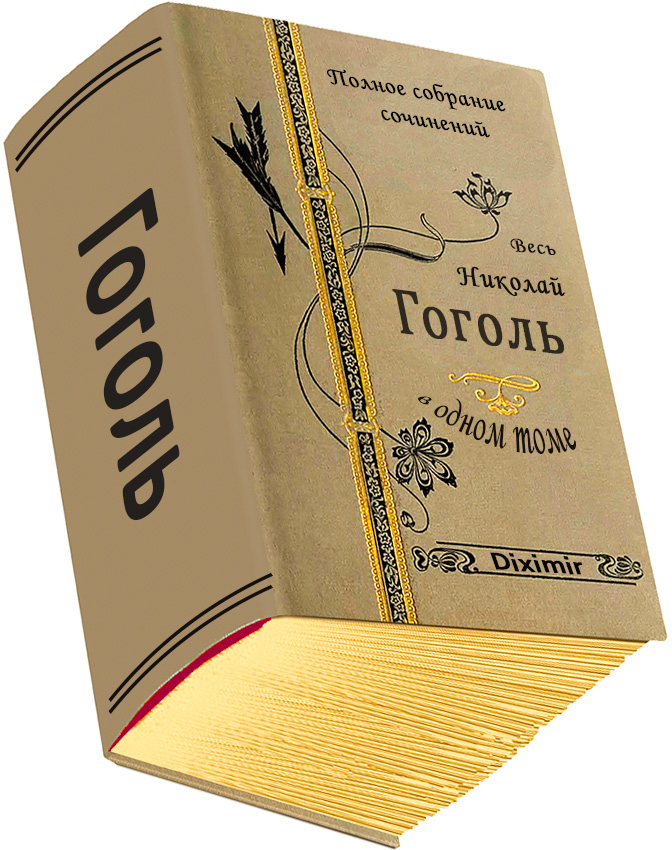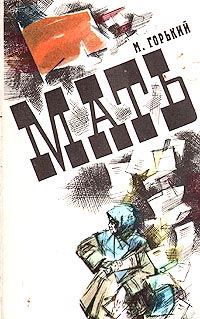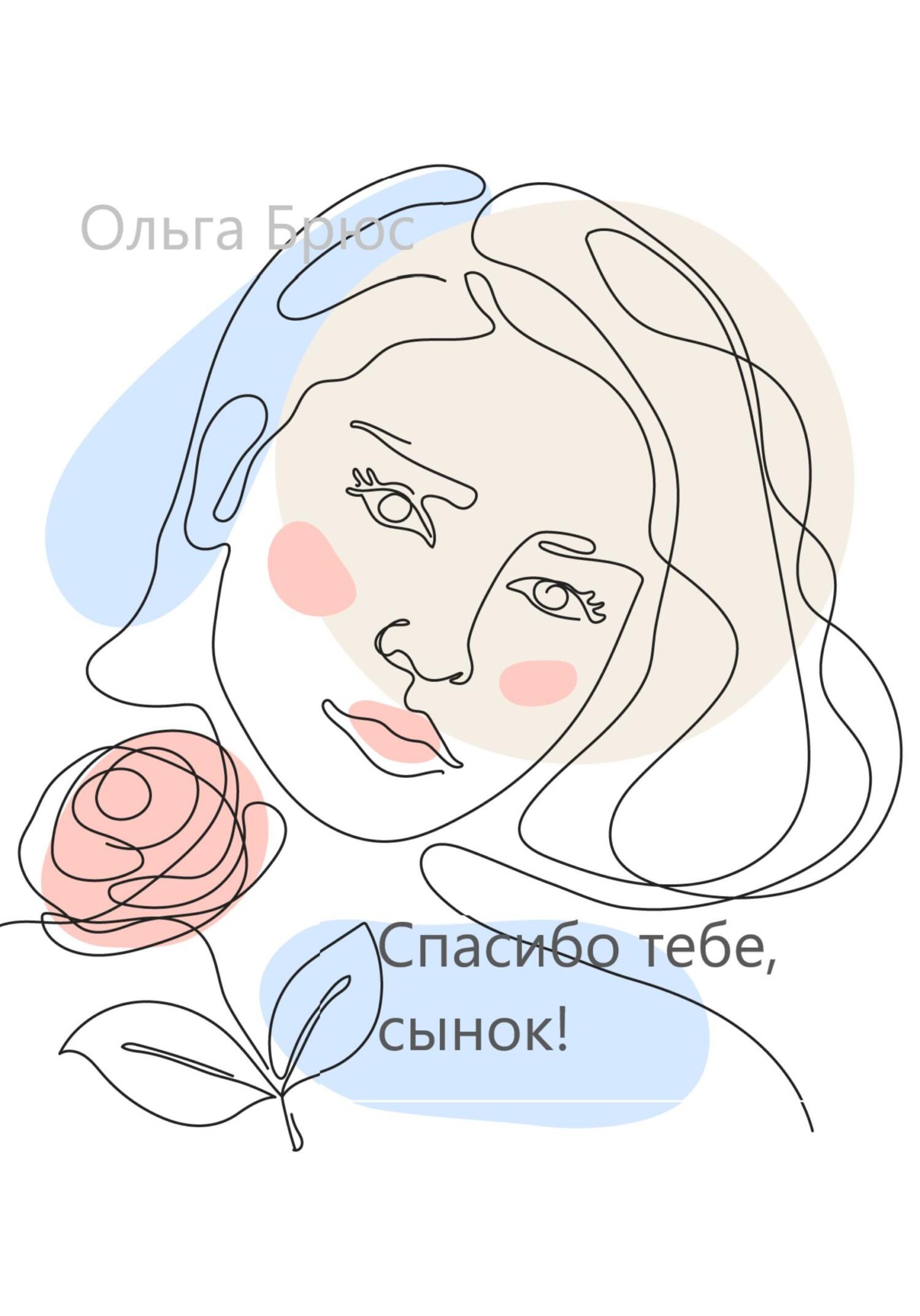послушай. — И он читает статью.
— А вот я читал про раскопки, про разные исторические документы. По песчинке землю перебирают, каждую бумажку годами ищут. А теперь что! Найдут могилу, скажем, Петра Первого, нажмут кнопку — пум! И вот тебе Петр живехонек. А ну-ка, скажут, брат, чего ты делал такого-то числа, рассказывай!
— Да оно и теперь, поди, только больших людей оживляют, а не нашего брата.
— Ну почему больших, кто нужен, того и оживляют. Вот, скажем, пройдет лет пятьдесят и вдруг вспомнят про тебя.
— Кто про меня вспомнит?
— Вспомнят. Найдут могилу — раз! Ты встаешь, потягиваешься и сразу: «А где тут столовка, я пятьдесят лет не евши!»
— Почему это меня, может, тебя?
— Ну что ты! Я проект читал. Через пятьдесят лет у нас в городе общество лентяев организуют, председатель понадобится, лучше тебя и тогда будет не найти!
— Ха-ха-ха! Ох! Хо-хо-хо!
Другой откладывает газету, задумывается, мрачнеет.
— Ты что это, Петр Сергеич? Чего тебе не по душе пришлось?
— Не по душе, это верно. Вот прочитал ответы этих разных, как их? — он снова взял газету и прочитал фамилии, — одним словом, дипломатов всяких буржуазных, и не по душе мне. Наши и честью, и уговором к ним, и согласием, а они никак, ни на что не идут. Вот и гляди на дела-то.
— А я не удивляюсь и не расстраиваюсь, — усмехнувшись, тая на губах улыбку, отвечает сосед по лавочке.
И, увидев эту сдерживаемую еще смешинку на его лице, те, кто был рядом, прислушались.
— Дело это старое, чего дивиться. Помню, лет десять, не больше, мне было, отец рассказывал, когда еще единолично жил. Был у нас в деревне мужичонка, такой неказистый, а лошаденка у него — в чем душа держалась. И стара, и глуха, и силенок в ней только саму себя ка ногах держать. «Продай, говорят, Иван, лошадь. На кой черт она тебе сдалась, только корм переводит». А он свое: «Люблю, говорит, Сивку за ухватку: хоть и не везет, а ржет!» Вот и они на этого Ивана похожи.
И снова дружный хохот.
— Ну, а дальше как он?
— Так без лошадки и остался! Подохла!
— Ой, тошно! Ха-ха-ха! Ну и ну! Хо-хо-хо!
Первое время, когда подходил Павел Васильевич, это оживленное веселье и разговоры стихали, его еще не знали, не приняли в свою компанию. Потом привыкли. Когда он в первый раз сел играть, за столом установилась напряженная, выжидательная тишина. Даже костяшки ставили без обычного стука, осторожней. Он играл, приложив все свое умение, партия длилась долго, и проиграл.
— У вас получается ничего, партнер только подвел, — заметили ему.
— Нет, дело не в партнере, я сам смазал, не рассчитал, — ответил он, — бывает. Но мы еще поиграем. Не может быть, чтобы не выиграли. — И занял очередь на новую партию.
Ответ понравился. Здесь не терпели, когда выгораживали себя. Здесь были равны все. С этого раза и ему говорили, когда делал неверный ход:
— Гляди, Павел Васильевич, гони с руля-те воробья-те, а то потонет баржа-те! — Или еще что-нибудь в этом роде. И смеялись, подтрунивая над ним, как и над всеми. Он приходил домой повеселевший, словно заряженный этим неиссякаемым оптимизмом.
Но сегодня почему-то не хотелось играть. Постоял и пошел домой.
* * *
Было десять часов вечера. Павел Васильевич сидел в кресле за столом и читал. Свет настольной лампы тускло поблескивал в стеклах книжных шкафов. Книг было много, он любил их и берег. Но сейчас он читал протоколы.
— Поздно уж, сынок, ложился бы, — подойдя к нему, сказала мать.
— Еще немного, мама, и лягу.
— И томишь себя, и томишь. Посидел бы давеча на воле-то, отдохнул бы.
— Я отдохнул.
— А что это за бумаги такие, что нельзя завтра почитать?
— Сегодня надо, мама. Понимаешь, не ладится, брак в литейном идет.
— Брак? Так куда же они глядят? Не видят, что ли? Добро портить. А ты-то что же? За них работать никто не будет. Построже надо с такими.
— Видишь ли, мама, тут и я виноват.
— Это в чем же?
— Брак идет потому, что одни его делают, и потому еще, что другие ничего не делают. Вот рабочие тут кое-что просят, не хватает у них подчас того, что нужно. И рады бы они, да выходит брак из-за этого. Тут уже мы виноваты — руководители. Вот и сижу, прикидываю.
— Ну, такое дело надо, сынок. Только уж ты не засиживайся. Побереги себя, один ведь ты у меня. Только и жизни, что ты… — сказала мать, и губы ее дрогнули.
Павел Васильевич понимал эту материнскую, не проходившую с годами, а только прятавшуюся глубже в сердце боль. Четыре сына были у нее. Остался один он. Трое не пришли с войны. Не пришел и отец…
— Сядем, мама, вот сюда, на диван, посидим рядом, — предложил он, — а то ведь ты у меня все одна и одна… Только и видимся с утра, да вечером немного.
— Женился бы, сынок, пора уж, — высказала она свое, видно, давно волновавшее ее желание. Она никогда не говорила об этом и никогда не сказала ему не выношенного сердцем слова за всю свою жизнь, поэтому он понял, сколько смысла мать вкладывала в то, что говорила, и сколько про себя думала об этом.
Он смутился и промолчал.
— Все работа да учеба, а когда же детей растить будешь? Да и мне бы лучше, веселее жить было. Или сердце еще не выбрало? — продолжала она, внимательно глядя на сына и тихо улыбаясь про себя, представив, какою полною, радостною будет и для нее жизнь, когда у сына будет семья, а у нее — внуки. — Ты уж меня прости, старую, — видя, что он совсем опустил голову, сказала мать. — Сидишь одна-то дома, чего только не придет в голову… Не думай, я тебя не неволю. Как хочешь. Как тебе лучше. — И вдруг, видно, догадавшись, спросила: — А что же ты молчишь, Пашенька? Али любишь?
— Не знаю, мама.
— А чего тут не знать… Горд очень. Это ведь вся жизнь твоя, жена-то. Походить за ней надо, и походишь, нечего гордиться, — убежденно и обрадованно заговорила она. — Робко, конечно, знаю… Только ты больно-то не гордись. Перед любовью нет такого человека, чтобы голову не склонил.
— Что ты, мама, какая гордость, — улыбнулся он.
— А что? Обегает тебя? — сразу насторожившись, спросила она. — На такую плюнь. Спину не сгибай ни перед кем. Мы — рабочие люди, наша любовь ползанья не любит.
— Нет, мама, не то. Я еще сам не знаю, что, а вот опять увидел сегодня и…