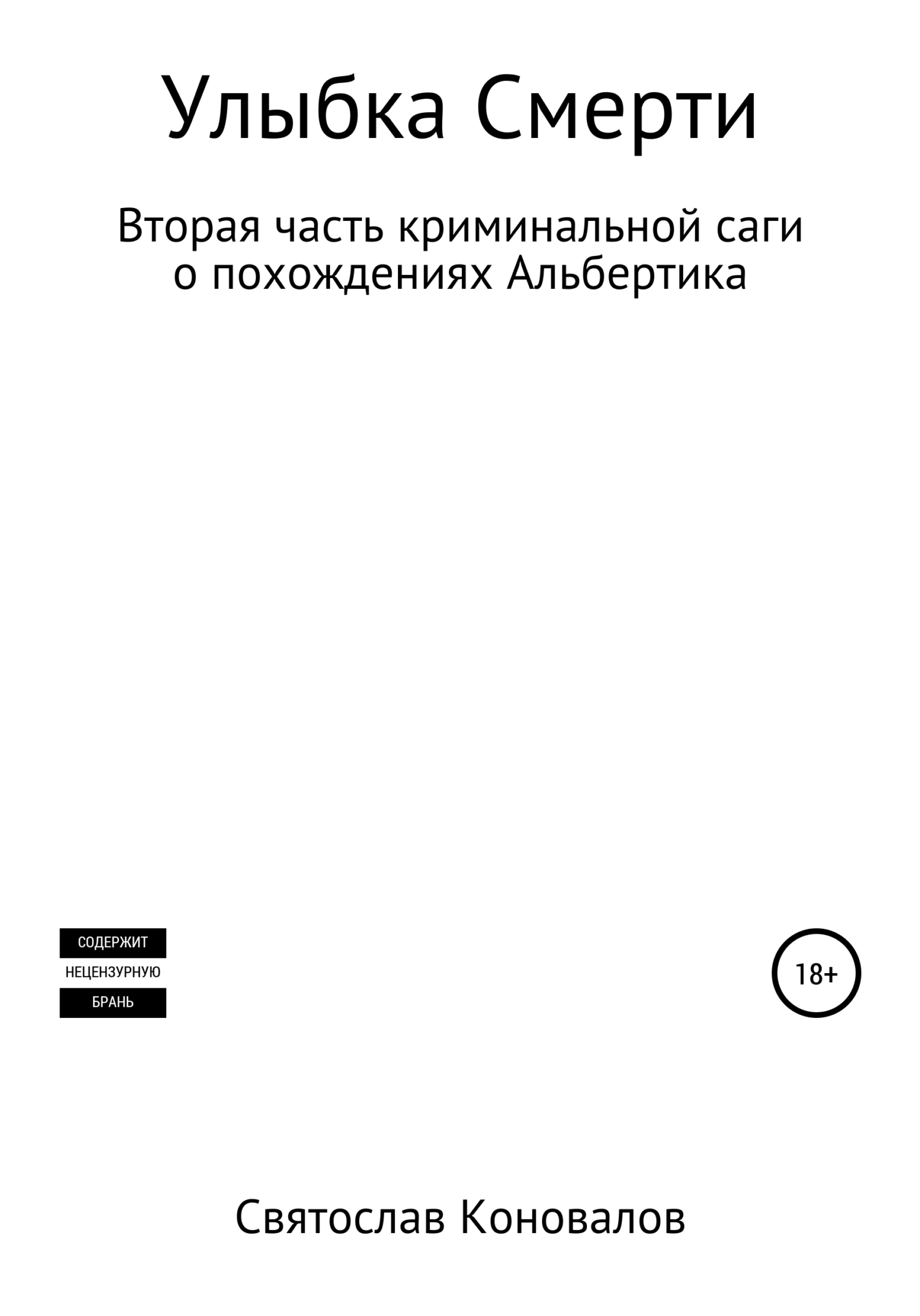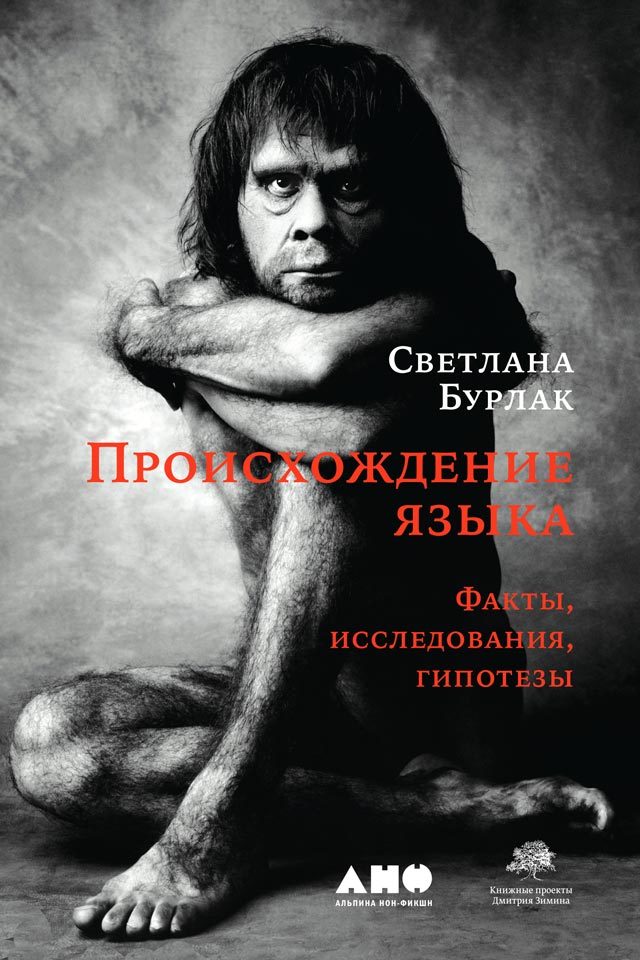бродил по улицам поселка, жадно вглядывался в лица и одежду крестьянок в поисках возникшей в воображении женщины, умудренной опытом жизни, крепкой здоровьем, веселой, полной нерастраченных сил и душевного равновесия, но не находил.
Как-то из окна своей комнаты он, казалось, увидел ту, которую искал: по улице торопливо шла крестьянка в цветном наряде, с лукошком в руке, средних лет, стремительная, красивая.
Надо ее остановить! Архипов с силой постучал кулаком в раму окна. Женщина замедлила шаги и с недоумением оглянулась. Абрам Ефимович выбежал из Дому:
— Нет ли у тебя, масла сливочного? Я куплю.
— Нет у меня масла, в магазин я спешу.
— Откуда ты?
— Из Полкова.
— Как зовут тебя?
— Егорова Прасковья.
— А по батюшке?
— Петровна я. Некогда мне, магазин вот-вот закроется, соль купить надо! — И она почти побежала в сторону магазина.
Была и нет! Надо ее найти!
Через несколько дней Архипов пошел в Полково.
Прямая дорога лесом была легка и приятна. Не заметил, как прошел три километра. Вот они, домишки, в чаще леса. Их много — больше сотни. Без труда нашел он дом Егорова. Было обеденное время. Художник застал дома всю семью: сумрачного на вид хозяина с цигаркой во рту, деловитую и ласковую хозяйку, трех сыновей (старшему было около пятнадцати лет) и двухлетнюю дочку Машу.
— Дом мне ваш понравился, — сказал Архипов, садясь на лавку. — Хочется нарисовать его.
— Что ж, давайте, — отозвалась Прасковья Петровна.
— Это я сделаю, — улыбнулся Архипов, — а вот как бы с тебя портрет написать? Недели две буду писать, не меньше.
— Что уж долго так? — спросила Прасковья. — В тот день, когда ты мне в окошко постучал, я от Киселева-Камского шла. Он тоже с меня рисовал. За четыре часа отмахал!
— Значит, опередил меня Александр Александрович, — сказал Архипов. — Но мы торопиться не станем. Отдыхать будем, разговаривать…
На другой день, как и условились, Прасковья пришла к Архипову к семи часам утра. Художник уже ожидал ее. Прасковья пришла босая, но в праздничной одежде: в желтом платке, красной, ею самой вышитой кофте, розовом фартуке, расшитой красной юбке и в черной суконной безрукавке.
Она увидела в комнате художника целый ворох женской одежды, примерила шелковый красный платок, сказала:
— Больно хорош платок-то.
— Верно, нужен красный платок, только не шелковый, а простой, вместо суконной надень плисовую черную безрукавку, сними свой розовый фартук и надень зеленый… Вот здесь, на веранде, садись на край стола, под ноги я скамейку поставлю. Так, хорошо, — говорил Абрам Ефимович, усаживая ее. — Будешь держать этот шерстяной розовый платок, на руку положи тонкую цветистую шаль с кистями. Еще вот что: стеклянные бусы надень и сиди, Прасковья, как будто в гости пришла, улыбайся. — И, верный себе, попросил: — Расскажи мне о своей жизни.
Дом № 21 на ул. Революции, в котором жил и работал А. Е. Архипов в 1929 г.
— Жизнь у меня самая простая, крестьянская, — начала свой рассказ Прасковья Петровна. — Родилась в Заборье в 1892 году. Отец мой, Миронов Петр Иванович, умер, когда мне было шесть лет. Осталась я у матери с младшей сестренкой и с бабушкой, совсем плохо стали жить, голодно. Мать украдкой побираться ходила… Подруги мои в школу пошли. Говорю матери: «Ма, я тоже пойду учиться!» А она мне: «Прясть надо!» — или: «Скотину пасти». Так и не попала я в школу, а как грамотной хотелось быть — страсть! Сестра моя две зимы в школу ходила. Загляну к ней, бывало, в букварь, спрашиваю: «Эту как буковку звать, кругленькую, колечком?»— «Это «о», — скажет. «А эту — две палочки с перекладинкой?..» Только разговоримся — мать на работу зовет. Осталась я темной. Правда, читать кое-как научилась, очень читать люблю, а писать не умею, даже когда расписываюсь, устану, пока фамилию свою соберу…
С двенадцати лет отдала меня мать в люди скот пасти, а потом из года в год так и пошло… Не то что при нынешней-то жизни. Чуть подрастет — в школу шагает.
На пятнадцатом году нанялась я на торфоразработки к купцу Хлудову, за Егорьевск. Женщины и мужчины там работали. Мужчины грязные были страсть — Мазепами мы их звали. Мы, женщины, торф укладывали сперва в малые клетки, потом в большие, затем уж в штабеля. Жили в бараке. Нары. Матрацы без простыней и подушек, под головы свои узлы клали. Маялись мы с тяжелыми кирпичами с раннего утра до темноты.
Помню приказчика Владимира Михайловича. Вот бы кого тебе, Абрам Ефимович, нарисовать: высокий, статный, с большой черной бородой, в красной рубахе, а свистел— что Соловей-разбойник. Утром свистом нас будил: два пальца в рот — и свистит. Встаем. Спина болит, от ворочки-то. «Ой, Мотька, спину мне помни!» Тяжелый труд был. Недаром часто пели бабы (украдкой, конечно), — и она завела сильным чистым голосом:
Кто не жил не живал,
Тот горя не знает,
А мы жили поживали,
Все горе узнали.
На руках у нас наперсты —
Мы считали версты
От Москвы и до Рязани
С горькими слезами.
Мы на горку поднимались
С большими сумами;
А на горке на горе
Стояла контора,
А во этой во конторе
Сам Хлудов гуляет.
Он гуляет да гуляет
С пером и с бумагой;
Переписывал хозяин
Разную работу:
Кому каменну, кирпишну,
А нам торфяную.
Посылает нас хозяин
Штабеля укладывать,
А мы клали-закладали,
Его проклинали:
«Провались ты, наш хозяин,
Со своей работой,
Провались ты, наш хозяин,
С торфяной болотой!»
— Удивительно, как хорошо, Прасковья! — воскликнул взволнованный художник.
— А скажи мне, Абрам Ефимович, что ты про жизнь мою все выспрашиваешь?
— Чтобы портрет хорошо получился.
— Чудно мне это…
Абрам Ефимович работал упорно, с упоением, с семи до шестнадцати часов ежедневно.
Два дня он рисовал портрет на полотне, жадно всматриваясь и «вслушиваясь» в натуру, и только на третий день взялся за краски.
К двум часам дня Вера Матвеевна звала обедать, а через полчаса на веранде восстанавливалась прежняя рабочая обстановка.
В конце августа наступило похолодание, моросил дождь, и опять Прасковья Петровна пришла из Полкова босиком. Абрам Ефимович заволновался:
— Опять разутая! Холод-то какой, так и простудиться недолго!
— Ничего, — смущаясь, ответила та. — Летом к чему зря обувку-то трепать?
— Ну вот что: я дарю тебе свои теплые ботинки, ты их и здесь надевай